 |
 |
*** Мальчишкой я много читал. Моими любимыми авторами были Джек Лондон, Вальтер Скотт, Мопассан, Бальзак, Флобер, Фейхтвангер, Манны, Драйзер. Читал, конечно, и “Молодую Гвардию”. Не думаю, что от этого произведения я вынес какое-то глубокое впечатление, помню, что я быстро перелистовал страницы, дабы поставить галочку – прочитал. Так в жизни, прочитав тысячи и тысячи книг, я и не добрался по-настоящему до классической русской литературы XIX века. Конечно, я прочитал всех великих русских: Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Тургенева, Некрасова, Тютчева, Гоголя, – одним словом, всех. Однако я читал их в том возрасте, когда литература является средством развлечения, а не познания. А жаль. ***  Первый салют был произведён из 120 орудий 20-ю залпами по поводу освобождения Орла 5 августа 1943 года. Я потом очень часто бегал в Сокольнический парк во время салютов, где на аллее стояли зенитки, из которых давали салют. ***  17-го июля 1944 года москвичи были свидетелями и участниками необыкновенного: через Москву провели 57 тысяч захваченных в плен при освобождении Минска немецких солдат, офицеров и генералов. Я не увидел проявления особой враждебности москвичей к проходившим мимо пленным. Они хмуро стояли огромными толпами на тротуарах по всей трассе. Этому, по-моему, есть простое объяснение. Хотя по радио, в газетах и в киноновостях ежедневно сообщалось о зверствах и разрушениях немецких войск на оккупированных ими территориях, сама Москва очень слегка пострадала во время войны. Так, недалеко от нашего дома полутонной бомбой была разрушена кожевенная фабрика, стоявшая на берегу Яузы у Стромынского моста, в полукилометре от моего дома. Надо сказать, что я помню это событие очень хорошо. Когда объявили воздушную тревогу, мама и я, в отличие от моего брата, у которого была своя компания, собиравшаяся во время бомбёжках в определённом месте бомбоубежища, решили не идти в подвал, а вместе улеглись в её постель. Мы уже спали, как вдруг что-то заставило нас обоих поднять головы, моментально раздался страшный взрыв и нас прижало к подушкам. Мама быстро приказала: «Ну-ка немедленно в убежище». Ещё одна бомба в те дни попала в Малый Театр, который был рядом с Большим Театром, на фасаде которого от взрыва образовалась большая трещина. Кстати, после войны мой брат Августин работал мраморщиком на восстановлении здания Малого Театра. *** Кстати о немцах. Во время войны и немедленно после неё в нашем микрорайоне их было предостаточно. Уже с 44-го многие пленные расконвоированные солдаты, которые строили двухэтажные дома для номенклатуры, ходили по домам с целью обменять те мелкие вещи, которые у них остались, на какую-либо еду. В основном продуктом обмена были кожаные ремни с оловянной пряжкой, на которой было написано: “Gut mit uns”.  Кроме этих солдат на заводе “Геофизика” (главный корпус которого протянулся почти от одной трамвайной остановки до другой по Стромынке) работала группа немецких офицеров, как я думаю, инженеров-оптиков, которые жили в деревянном доме отдыха на берегу пруда в конце улицы Короленко прямо напротив входа в парк “Сокольники”, рядом с которым впоследствии построили закрытые теннисные корты спортобщества “Шахтёр”, где я приобщился к этому любимому мною до сих пор спорту. Мой друг Алик Качеровский, проработавший на заводе-институте “Геофизика” многие годы, рассказал мне, что однажды у купавшихся в пруду немецких офицеров стащили всю их одежду. «Вот то смеху было». Обитатели же вышеназванного немецкого дома работали, я уже об этом говорил, на Электрозаводе имени Куйбышева, находившимся совсем неподалёку от нашего дома, на другом от нашего дома берегу реки Яузы, и даже в другом административном районе, Сталинском, который потом переименовали в Семёновский, а наш Сокольнический в Куйбышевский. *** Я ничего не знаю о сексуальности моей матери, тёти Лии, моего отца, догадываюсь, как был сексуально заряжён мой брат Августин, думаю, что у меня есть правильное представление в этом смысле о моём племяннике и его дочери. Что касается моей собственной дочери, то как бы я ни анализировал, к правильному выводу я не приду.  Марина стала жить со студентом из Алжира в 15 лет. Такое впечатление, что это была постоянная связь, хотя я не был этому свидетель. На это указывает хотя бы то, что приехав в Америку, она завела себе ещё одного араба и прожила с ним около 2-х лет, и я полностью уверен, что в этот период она была только с ним. Можно спросить: при чём постоянство и сексуальность? Я думаю, что между ними есть прямая связь. Я не собираюсь дискутировать на эту тему, т.к. могу к этой проблеме подходить только эмоционально, а не рационально, тем более, что мой опыт не теоретический, а практический. Моя дочь же имела ещё пару известных мне друзей жизни. С Сашей она прожила около полутора лет в Израиле, а через несколько лет завела с ним дочку Машу, уже в Канаде. В промежутке довольно продолжительный период она “встречалась” с Мишей, живя в Москве. Я думаю, что у неё не длинный послужной список, также я думаю, что она нормальный сексуальный, но не очень удобный для совместной жизни партнёр. Это она, к несчастью, унаследовала как от бабки, так и от меня. Одним словом, я не знаю, если так можно выразиться, её modus operandi по отношению к особям противоположного пола. Конечно, из неё даже близко не получилось и уже не получиться то, кем хотела бы видеть её бабушка, моя мать, но это вообще случается довольно редко. О её дочке ещё рано что-либо говорить: ей всего один год с лишним, однако уже сейчас, по докладам её матери, темперамент её выше среднего. Всё это была преамбула к тому, чтобы взяться за себя.  Мама очень следила, чтобы ни я, ни брат не занимались онанизмом. Уже когда мне было лет восемь-девять, если она видела, что я держу руки под одеялом, то тут же кричала: “Не крути «гаврилку», немедленно вытащи руки из-под одеяла!” Занимался ли я этим в дальнейшем, уже не помню. 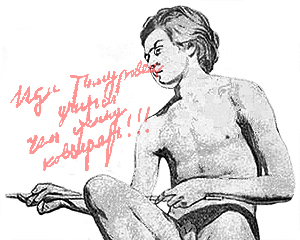 Спал я с мамой на одной кровати до самой армии, пока Августин в 1952-м не женился и не переехал на квартиру своей жены, освободив мне свою койку.  Что же касается Августина, то занимался ли он онанизмом, я ничего не знаю, я никогда его об этом не спрашивал. *** У неё было сложное романтическое прошлое. *** Мне вспоминается одна не очень значительная, смотря с чьей точки зрения, история голодных времён, которая лично меня потрясла. Думаю, в конце 1945 или где-то в начале 1946 года, когда ещё продовольственные карточки были в полном ходу и о набитом желудке подавляющее большинство москвичей только мечтало, я проходил по Комсомольской площади мимо Ленинградского вокзала. По ступенькам от вокзала спускался долговязый тощий английский офицер в портупее и в огромной фуражке на очень продолговатой голове, выглядевший, как только что почищенная монета: всё было на нём новенькое и до беспредела в порядке. Рядом с офицером без поводка вышагивал высокий холённый серый дог, также вычищенный до предела. Оба, и собака и англичанин, шли как бы подпрыгивая на пружинистых ногах. Естественно, они привлекали всеобщее внимание окружающих, несмотря на то, что в те годы мало что могло удивить привокзальную публику, среди которых большую часть составляли транзитные пассажиры, повидавшие за войну то, о чём писали, пишут и будут писать ещё очень долго. Естественно, были там попрошайки, а где их не было в то время, и проститутки – особая их разновидность – вокзальные. Английский же офицер вынул из кармана банан и к всеобщему изумлению окружающих стал им кормить собаку, которая, видимо, любила и привыкла к такой еде. Я думаю, что 90% наблюдавших эту сцену впервые в жизни увидели настоящий банан. Вопрос в другом: что пытался продемонстрировать офицер союзной нам Его Высочества Королевской армии – его презрение к советскому народу или свой полный идиотизм? ***  Весной 1947 года мне было 14 лет, в 370-ой школе имени А.С. Пушкина в Сокольниках, в Москве, где я был самым отстающим учеником в 7-ом «Б», происходило всешкольное комсомольское собрание, на которым главным в повестке дня был приём новых членов. Происходило это довольно автоматически, кандидатов принимали без обсуждения. Но вот очередь дошла до меня, и тут случилось нечто необычное: когда секретарь комсомольской организации школы открыл рот, чтобы сказать, что он предлагает комсомольцам школы проголосовать за приём Марата Катрова в члены Всесоюзного Коммунистического Союза Молодёжи СССР, его перебил военрук школы полковник в отставке, еврей Шаффер, сидевший, как и секретарь, в президиуме собрания. Он сказал, что предлагает не принимать меня в члены комсомола. Воцарилась полная тишина, т.к. такого ещё в школе не было. Если секретарь предлагал кандидатуру, то её обычно утверждали. После некоторого замешательства раздались голоса, потребовавшие от военрука объяснения. Тот встал, его лицо страшно покраснело, видимо, от волнения, он долго мялся, не решаясь открыть рот, а затем выпалил: «Не наш он, не наш». Ни кому из нас не было понятно, о чём говорит Шаффер.  Все мы были простыми советскими мальчиками, беззаветно любившими нашего дорогого Иосифа Виссарионовича Сталина. ***  Ошер-Оскар Осипович Рывкин (20.12.1907-04.04.1993) был преподавателем истории, когда я очутился волею судьбы (а в действительности благодаря махинациям моего брата) в седьмом классе 370-ой школы имени А. С. Пушкина. Смотря с высоты прошедшего времени, совершенно очевидно, что это был психически нездоровый человек. Конечно, евреи очень эксцентричные люди, но всё то, что происходило в моём классе, нельзя просто квалифицировать как эксцентричность, – теперь уже, смотря назад, абсолютно очевидно, что у нашего учителя была глубокая ментальная неуравновешенность, граничащая с психическим расстройством. Как правило, Ошер Осипович стремительно влетал в класс, неся в руках портфель, несколько авосек (так в то время называли плетённые сумки, которые все советские люди носили при себе на случай “авось что-то дают”: была нехватка абсолютно всего – одним словом, мы жили в государстве “всеобщего благоденствия”), всё это было набито книгами, порой, он нёс книги даже под подмышками. Первым делом он говорил нам: «Спрячьте книгу, я вам буду рассказывать то, что абсолютно нет в ваших учебниках». Его слова служили нам сигналом, мы все тайком открывали книги, и он оправдывал наши надежды, читая слово в слово то, что было написано в учебнике. На каждый его урок мы должны были приносить полный набор цветных карандашей. Иногда мы штудировали новый урок под его строгим руководством, раскрыв учебники. Это примерно начиналось так: «Иванов, открой “Историю СССР” и начинай читать сверху страницы 85». Прочитав первый абзац страницы, Иванов, как правило, под жестом учителя останавливался. Затем следовала команда: «Проведите две параллельные черты вдоль всего параграфа красным карандашом, напишите рядом две заглавные латинские буквы “N” и “В” чёрным карандашом и возьмите в кружок эти буквы зелёным карандашом». Мы узнали от историка, что “N” и “В” читались по-латыни “Note bene” и переводилось на русский как “очень важно”, чем ужасно любил пользоваться сам Владимир Ильич. Уже к концу первой четверти наши учебники по истории представляли удивительное зрелище, которое только можно сравнить с рукотворчеством очень маленьких детей, которые совсем недавно познакомились с бумагой и цветными карандашами. Надо отметить, что в те времена мальчики и девочки учились раздельно. Однажды одним из первых солнечных весенних дней мы все сидели на заборе, разделяющим двор нашей школы от соседних дворов, наслаждаясь поистине великолепной погодой, в ожидании начала уроков. Как я уже сказал, это был один из первых весенних дней и жижа от дождей была глубже, чем по щиколотку. Наша школа стояла в окружении деревянных домов, которые совсем недавно начали сносить, поэтому в школу можно было пройти по прямой от метро «Сокольники», и нашлись смельчаки-первопроходцы, которые проложили тропинку по грязи от Сокольнической площади, где была станция метро, до самых дверей школы. Неожиданно на этой тропинке появился человек, обративший внимание на себя всех сидящих на заборе. На нём была ярко голубая рубашка, белоснежные полотняные брюки, под стать им парусиновые ботинки. Завершала этот наряд невероятной раскраски огромная кепка со множеством углов. В руках у него был портфель и несколько авосек, до упора набитые книгами, – у него не было, я бы сказал, свободного пальца. Вы отгадали, – это был Ошер Осипович Рывкин, наш учитель истории. Он весьма осторожно шёл по тропинке, когда же он поравнялся с нами, случилось из ряда вон выходящее: кепка упала ему на глаза. Мы все замерли, ожидая что же будет дальше. Как мы понимали он не мог продвигаться дальше, т.к. мог видеть только на несколько сантиметров впереди себя. Понимая, что ему неоткуда ждать пощады, и зная, что слева от него в трёх-четырёх метрах забор, на котором сидели мы, он повернулся в нашу сторону и, осторожно ступая по грязи, которая доходила ему до щиколоток, подошёл к забору. Как оказалось, представление только началось. Добравшись до забора, он под дружный наш хохот, двигая головой сверху вниз, так что козырёк соприкасался с забором, после нескольких неудачных попыток наконец-то он поднял козырёк на лоб, после чего, оглянувшись и увидев наши уже не улыбающиеся лица с плотно сжатыми губами (мы с трудом удерживались от того, чтобы не разрыдаться от смеха), он продолжил свой путь к входным дверям школы. *** Наступил период, когда мама не знала, что делать со мной. Дело в том, что я пропустил в войну один год. Августин решил, что я должен наверстать этот год, прыгнув после окончания 5-го класса сразу в 7-ой, взяв с меня обещание, что я буду заниматься летом.  Однако наступила осень, а я пребывал в состоянии полного неведения того, какие предметы проходят в 6-ом классе. Это не остановило моего брата, и я благодаря его настойчивости и связям 1-го сентября «сидел» в 7-ом классе. Естественно, благодаря моей полной лени я его не закончил, т.е. остался на второй год. Встал вопрос: что же делать со мной дальше. Мама решила, что я должен начать работать и учиться в вечерней школе (20-я школа рабочей молодёжи). Таким образом, я первый раз в жизни был устроен на работу, причём по блату в полном смысле этого слова. *** На работу в юношестве меня устраивали всегда по блату. Так, в 1946 году учеником токаря, когда мне было 14 лет, на завод АТЭ (АвтоТракторного Электрооборудования) на Электрозаводской улице, который был на одной территории с Электрозаводом, меня устроила по просьбе мамы Полина Рохлина, работавшая в парткоме завода АТЭ, – знакомая мамы из дома 16А, который все мы называли немецким, потому что одно время там жили немцы, немецкие коммунисты (Сталин-Гитлер), приехавшие работать в СССР на одном из трёх заводов на Электрозаводской. Эта милая женщина по фамилии Рохлина устроила меня учеником токаря на свой завод. Я одел новый комбинезон, купленный специально по этому поводу, и стоял всю смену, а была она 4 или 6 часов, т.к. я был малолетка (мне было 14 лет), облокотившись на станок, наблюдая за тем, как из под рук токаря 7-го разряда выходили невероятные для моего понимания вещи. Вскоре мой комбинезон превратился в замасленную тряпку.  В это время, а был конец 48-го года, жизнь слегка полегчала, даже с едой стало лучше. Это отразилось и на нашей семье, так мама решила стелить на постели белые покрывала, которые лежали где-то спрятанные многие годы. Так вот, приходя с работы, если так можно было назвать моё пребывание на заводе, я ложился, не раздеваясь, на белое покрывало. Вскоре маме надоело смотреть, как я постоянно усталый от бессмысленного стояния у станка валился на белое покрывало, как только приходил с завода и она «уволила» меня. Так закончилась моя первая работа, на которую я был устроен, как я уже сказал, по блату. Я думаю, этот эксперимент продолжался не более 3-4 месяцев. *** Мои отношения с музыкой, если так можно сказать, или к музыке менялись с возрастом, я бы сказал, что они эволюционировали постоянно. Интересы эти росли, к моему теперешнему неудовольствию, больше вширь, чем в глубину. Я думаю, причиной тому было полное отсутствие музыкального образования. Я воспринимал музыку скорее поначалу только эмоционально и не более. На это кто-то может сказать: «А как же ещё?» Я не подготовлен участвовать в дискуссии на эту тему, однако думаю, что помимо животного эмоционального отношения к искусству, человечество на то и есть человечество, чтобы включать способность мозга во всём его объёме в восприятие всего того, что мы называем художественным творчеством, а не только одну его сторону – эмоциональную. Естественно, когда я стал работать в Главной Редакции Музыкальных Передач Центрального Телевидения, пришлось удовлетворять вкусы и потребности масс и главных идеологов страны, которые далёко расходились с моими.  Сразу после войны, когда мне было лет 14, я постоянно стоял в очередях за билетами в Московской театр Оперетты, тогда он ещё находился на площади Маяковского. В то время репертуар этого театра в основном состоял из оперетт Кальмана, а на сцене выступали под наши восторженные аплодисменты выдающиеся мастера этого, порой, совсем нелёгкого жанра – Качалов, Лебедева, Ярон, Аникеев, к которым в дальнейшем присоединилась Шмыга, но уже во времена моего полного охлаждения к театру на Маяковской: я её слышал только по радио. Одновременно с привязанностью к оперетте у меня появился интерес к опере. В то время на сцене Большого театра выступали выдающиеся таланты: Козловский, Лемешев, Ирина Давыдова, Михайлов, Поторжинский, Рейзен. Между тем попасть на спектакли театра было очень сложно. Как правило, очередь за билетами выстраивалась вдоль стены театра с вечера, а кассы открывались на следующий день не то в 11, а может быть и в 9 утра. В одни руки продавали только два билета, причём очень часто мы вынуждены были брать билеты на предложенные нам кассиром спектакли, т.к. на запланированное нами представление их уже не было. Кому и когда их продали до нашего сведения, не доводили. Не могу вспомнить, откуда у меня были деньги на билеты, и хотя они не стоили целое состояние, всё-таки при нашей полной бедности это было серьёзным ударом по семейному бюджету. Также не могу вспомнить, как мне удавалось пропускать уроки в школе. Потихоньку моя привязанность к оперетте угасла. Я думаю, случилось это к годам 16-ти. Более того, я стал относиться к ней как к легковесному жанру искусства, который существует, чтобы удовлетворять низкие вкусы широких масс. Тут приходится вспомнить пословицу: от любви до ненависти один шаг. Нечто подобное повторилось в Америке. В Нью-Йорке в первые несколько лет я пересмотрел все наиболее популярные шоу на Бродвее. По прошествии нескольких лет я понял, отдавая должное высочайшему мастерству бродвейских исполнителей, что эта область индустрии развлечения абсолютно не удовлетворяет мои интеллектуальные потребности, оставляя меня эмоционально пустым. И всё-таки я был бы полным идиотом, если бы целиком отвергал этот неотъемлемый от Америки и Великобритании жанр музыкального развлечения. Ещё в Риме я посмотрел с огромным удовольствием британский фильм-мюзикл “Jesus Christ Superstar”, а позднее уже в Америке опять-таки британский и опять фильм-мюзикл “Oliver”. С тех пор каждый раз, когда по телевидению показывают один из этих фильмов, я непременно их смотрю и огромное наслаждение, испытанное первый раз при просмотре этих фильмов в Риме, повторяется.  Я не скажу, что сразу после разочарования опереттой у меня появились другие музыкальные привязанности, однако помню, что я стал ходить на балетные спектакли в Большой театр, где тогда ещё танцевали Галина Уланова и Ольга Лепешинская. Постепенно у меня стал развиваться интерес к классике: советское радио сыграло доминирующую роль в этом, т.к. по нему, помимо пропаганды и музыки народов СССР, транслировали бесчисленное множество концертов классической музыки. Стал посещать оркестровые и сольные концерты в Большом Зале Консерватории и в Концертном зале имени Чайковского. Как я уже подчёркивал, я не имел да и не имею никакого музыкального образования, поэтому, чтобы погрузиться в новый для меня мир и воспринять его, я полагался больше всего на мою интуицию, в чём, я думаю, преуспел до сих пор. Джаз. Моё первое настоящее серьёзное знакомство с ним состоялось довольно поздно, в 1954 году. В то время меня сослали служить в зенитный батальон в Каунас. Однажды, стоя на посту на охране аэродрома в местечке Ионашкис под Каунасом, я включил радиоприемник и стал бродить по волнам и вдруг услышал голос, который не только для меня до самой моей эмиграции из Советского Союза, но и для множества моих единомышленников стал как бы путеводителем в необыкновенный мир «другого» музыкального жанра, голос этот принадлежал Willis Conover – ведущему джазовые программы правительственного радио Соединенных Штатов Voice of America. Не скажу, что я был полный профан в джазе, но мои знания ограничивались тем, что я почерпнул из немногочисленных американских фильмов, которые попали не знаю каким образом на советские экраны в конце войны и шли там до начала охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном, а иногда я слушал выступления советских так называемых, джаз-оркестров до их полного запрещения где-то в самом конце 40-х годов. С тех пор имена Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Оскар Питерсона, Джери Муллигана, Дюка Эллигтона, Каунт Бэсси, Арт Блэки, Майлс Дэвиса стали святыми для меня.  Несколько лет тому назад умер музыкант невероятного таланта – Майлс Дэвис. Я знал, что он был чёрный расист, антисемит, наркоман, и несмотря на всё это, когда я узнал о его смерти, впервые за много лет я прослезился, настолько своим невероятным талантом он «достал» меня. *** Мой брат Августин познакомился в начале 50-х годов со своей первой женой Светланой Ярошевской в секретном научно-исследовательском институте, разрабатывавшим новые отравляющие вещества, на шоссе Энтузиастов, где оба “трудились” над созданием нового химического оружия для блага социализма. Он – инженером-технологом, она – химиком. До сих пор она не говорит ничего о своей работе: дала подписку 55 лет тому назад. Правда, иногда забудется и расскажет, как проводили испытания новинок на кроликах.  Я не помню, как мой брат попал на эту работу и что привело его в стены этого жуткого “института”, где он, порой, будучи в командировках на заводах Волгограда или Дзержинска, изготавливающих отравляющие вещества, работал непрерывно по 10-12 часов в сутки в противогазе, выполняя, порой, невыполнимое, а вот его жена в Нью-Йорке, уже на пенсии, естественно не советской и не российской, однажды в день её 76-летия, раскрепостившись по пути в больницу после её падения с постели, рассказала мне, как она очутилась там. Пару слов о химии. Я не сделаю никакого открытия написав, что Дзержинск Горьковской, а ныне Нижегородской области, был и, очевидно, есть одним из наиболее насыщенных химическими предприятиями городов России. Их там было 15. Это даже не областной центр, а районный. Там же произошла гигантская авария на одном из химических заводов с ужасающими последствиями в середине 60-х годов. Волгоград – бывший Сталинград, также как и Дзержинск, перенасыщен химией. Итак. Весной 1948 года Светлана сидела дома и занималась, готовилась к заключительному государственному экзамену в химическом техникуме, и тут случилось жуткое несчастье: прямо на её глазах у неё в доме её отец был внезапно арестован работниками МВД и препровождён в Бутырскую тюрьму. На следующий день Светлана сидела в коридоре перед экзаменационной комнатой и безостановочно рыдала. К ней подошли преподаватели и спросили, в чём дело; узнав причину, они сказали, что всё будет в порядке. – она всегда училась только на отлично и была круглой отличницей. Придя на на экзамен, заплаканная Светлана рассказала о случившемся одному из преподавателей, который наиболее ей благотворил. Тот сказал: “Не беспокойся, мы сейчас что-нибудь сделаем”, – и пошел к тому преподавателю, который принимал этот самый экзамен. Одним словом, всё закончилось благополучно: Светлану аттестовали без экзаменов и она получила диплом с отличием, даже не сдавая государственный экзамен. В августе того же года началось распределение. Войдя в комнату, где сидела комиссия по распределению и происходила эта процедура, Светлана увидела все знакомые лица преподавателей и работников техникума, за исключением одного, которое сразу ей не понравилось. И вот это лицо в штатском, я подчёркиваю в “штатском“, т.к. обычно на службе подобного рода официальные лица были в форме, заинтересовался Светланой, стал задавать ей вопросы и предложил поступить на работу в институт, который он представлял, не очень ясно рассказав, над какими проблемами работает это заведение. Светлане не понравился ни этот человек, ни то, чем занимается это неясное место, откуда он пришёл. Светлана подозревала, куда набирает выпускников этот военный, и не хотела туда идти работать, поэтому сразу сказала: «Мой отец сидит». Меня потрясает до сих пор гениальность и циничность его ответа: «Ну и пусть сидит». Она уже не смогла отвертеться от этого НИИ и через некоторое время сидела перед начальником 1-го отдела. В те времена, не знаю как теперь, в идеологических (телевидение, радио, издательства, газеты, журналы) организациях, а также на предприятиях, работавших на военную промышленность, параллельно с обычными гражданскими отделами кадров имелись так называемые 1-е отделы, которые также отвечали за кадры и были укомплектованы офицерами госбезопасности. Повторилась та же сцена, что и во время распределения. Светлана опять сказала, что её папа сидит. Тогда не надо было говорить, где или на чём сидит, – всё было ясно без объяснений. И опять она услышала от начальника отдела кадров “дома смерти” – НИИ, занимающегося разработками новых отравляющих веществ: «Ну и пускай себе сидит». Поразмыслив мне стало ясно, что это было стандартным выражением или, можно сказать, приёмом работников КГБ. Был 1948 год. Расправились с Еврейским антифашистским комитетом, разгромили Еврейский театр, очистили Министерство Иностранных Дел от последних евреев, закрыли для них Московский Государственный Университет, везде, где только можно было, ввели квоту на приём людей, у которых в пятой графе паспорта стояло слово “еврей”, и только там, где жизни людей угрожала смертельная опасность, вход им был широко открыт. Это к вопросу о птичках и о Светлане: как и почему её принимали на работу в НИИ отравляющих веществ (НИИОХТ, Научно-исследовательский институт органической химии и технологии). Предприятие это всё ещё находится в одном из самых насыщенных закрытого вида учреждений мест, на шоссе Энтузиастов, 23, там, где оно пересекается с Казанской железной дорогой. Несколько слов об отце Светланы Марке Моисеевиче. В середине 20-х годов этот очень способный человек учился в Московской Консерватории по классу скрипки. Общее мнение было, что его ждёт успех. И вот, когда он был на 3-ем курсе, раздался клич: “Из институтов к станкам”. Марк Моисеевич, не раздумывая пошёл на завод, где вскоре потерял палец, а вместе с ним и своё будущее. Но неприятности только начались. Я не знаю, когда Марк Моисеевич заболел, знаю только из рассказов Светланы, что вскоре после войны он стал посылать в вышестоящие организации письма, критикующие не только режим, но и самого вождя. Марк Моисеевич неоднократно писал письма и И.В. Сталину, обвиняя его в том числе и в том, среди многих других преступлений, что тот узурпировал власть Чаша терпения переполнилась, когда он послал письмо лично Сталину, в котором он обвинял его в узурпировании власти в стране: его арестовали. Вначале его отправили в Бутырку, затем на экспертизу в институт Сербского, затем на “лечение” в Казанскую психиатрическую тюрьму и в заключении сослали в Сибирь, откуда он вернулся домой в Тайнинку после смерти отца народов, естественно, совершенно больным человеком. *** Когда мне исполнилось 16 лет, перед тем, как идти в милицию получать паспорт, я спросил у мамы, что я должен поставить в графе национальность: русский или еврей. Она ответила: “Ставь, что хочешь, я не хочу быть виноватой остаток твоей жизни”. Настало время спроституировать: я отправился в архив Московского городского ЗАГСа, чтобы получить копию какого-либо документа, удостоверяющего национальность моего отца. Какого же было моё удивление, когда я прочитал в выданном мне документе: “Катров Пётр Афанасьевич” , – нет, нет не русский, а “румын”. Когда шок прошёл, я решил выяснить, а как относятся в стране полного равноправия всех народов к румынам, тем более, что мои неприятности совпали с продолжающейся охлаждённостью в отношениях между двумя странами: Румынией и СССР, Чаушеску играл в то время в независимость. Кроме того, у меня в памяти была жива поездка в Румынию, где за нашей туристической группой неотступно следовали люди в чёрном, ну точь-в-точь как в родной “милухе”. Вспомнив, что несколько лет тому назад, когда я работал над “Голубым огоньком”, посвящённым Дню пограничника, я пошёл на приём к командующему пограничных войск генерал-полковнику Заболотному в “святая святых” на Лубянку, где перед его приёмной на 2-ом этаже я встретил соклассника моего брата – майора КГБ, серьёзного выпивоху, но очень умного и доброго человека. Я сказал ему: “А вот и я здесь”. На что он резонно заметил, что “лучше бы тебя не было здесь”. Я решил позвонить ему. Он не стал вдаваться в подробности, он просто сказал: “Оставайся евреем”.  *** У меня всегда дилемма: кто я – еврей или гражданин мира? Моя мама биологически чистокровная еврейка с мышлением, которое было нетипичным для выходца из бессарабского еврейского местечка; мой отец неясной породы, о ментальных возможностях которого судить не могу, а только догадываюсь, т.к. все контакты с ним прекратились, когда я был совсем маленьким. Так кто же я? Думается, что я еврей только по обстоятельствам, т.е. в ситуации, когда меня принуждают быть евреем, как например, когда я встречаю антисемита или кто-либо пытается убедить меня в том, что государство Израиль не имеет право на существование. *** Что у меня общего с евреями? У меня с собой мало общего. Я думаю, я это нашёл у И. Кафки. *** Как я уже говорил, перпендикулярно Матросской тишине идёт Стромынский переулок, соединяющий главную артерию Сокольников со знаменитой теперь уже Матросской тишиной. В этом переулке в доме напротив завода «Геофизика» жили братья Зильберштейны: Миша, на год младше меня, и его брат Борис, который был моложе Миши на два года. Странно, но я учился в разное время с обоими братьями в одном классе. С Мишей в первом классе 396-ой школы, куда мы поступили накануне войны, ставшей впоследствии привилегированной первой в Москве специализированной английской школой под номером один. С Борей же после того, как я пропустил один год из-за войны, я учился, кажется, в 9-ом и 10-ом классах 370-ой школы имени Пушкина недалеко от метро Сокольники. Нельзя было сказать, что мы были неразлучными друзьями, но я проводил с Борисом довольно много времени, играя в теннис и пинг-понг, а также посещая волейбольные турниры, в которых участвовал Борис, играя за команду школы вместе с моим близким приятелем и соседом Юрой Носовским, который сейчас здравствует в Денвере и с которым раз в три месяца мы перезваниваемся. Довольно редко я бывал у братьев дома, где познакомился с их родителями. Их отец – зубной техник, был довольно анемичным, рано полысевшим, сидевшим всегда на диване и ни во что не вмешивавшимся белокурым человеком. Мама – внушительных размеров брюнетка, с очень серьёзной отдышкой, с усиками над верхней губой – добродушно заправляла всеми делами дома. Однажды она даже накормила меня. Я запомнил её блюдо на всю жизнь – это был сладкий картофельный суп с молоком. По окончанию школы оба брата (в отличию от меня они всегда учились очень хорошо) поступили в Первый московский медицинский институт. К этому времени я совсем потерял из вида Мишу и довольно часто общался с Борисом. Однажды мы даже «переспали» с девушками в одной комнате. Как-то, когда оба брата уже были студентами старших курсов, я встретил их невдалеке от их дома в довольно возбужденно-весёлом настроении. На мой вопрос о причине их веселья они рассказали мне, что их только что выпустили из милицейского отделения у Трёх Вокзалов, куда их привел дежуривший на платформе Ярославского вокзала милиционер (где они оказались, возвращаясь из-за города), подумав, что они те самые страшные рецидивисты, которых разыскивает вся московская милиция. В отделении, увидев их, дежурный спросил: «Вы братья?» «Да», – ответил Миша. «Как фамилия?» «Братья Имбициловы», – теперь уже ответил Борис. «Как зовут?» «Меня Дебил», – бросил Миша. «А меня Алигофрен», – в тон ему продолжил Борис. Через несколько лет я был единственным свидетелем в ЗАГСе, где Боря соединил свою судьбу с Люсей Манели. Перед моей эмиграцией оба брата были уже кандидатами медицинских наук. Борис был учеником самого значительного специалиста в области хирургии лёгкого профессора Богуша, Миша стал анестезиологом и работал в МОНИКИ. Встретился я с братьями и в Нью-Йорке, где оба стали практикующими врачами. Борис умер с десяток лет тому назад от рака задней кишки, с Мишей мои пути не пересекались. *** Всё у нас в семье было по блату: Августин стал резчиком по металлу в 14-ть лет благодаря какому-то маминому знакомому, в те же 14-ть я по блату стал учеником токаря на заводе АТЭ (автотракторного электрооборудования), а на следующую, вторую «блатную» работу, когда мне уже стало и было 17-ть лет и я продолжал учиться в вечерней школе, меня тоже устроили по блату (уж не помню, кто меня устроил), я попал на кожобувную за забором у Перовского рынка фабрику (недалеко от заставы Ильича, совсем близко от завода «Серп и Молот»), где опять же по блату я должен был шить кожаные и резиновые тапочки. Есть несколько запоминающихся моментов, связанных с работой на этой фабрике.  Мой левый указательный палец приобрёл такой профессиональный мозоль, что выглядел в два раза больше нормального. На работу я добирался на попутных машинах к необычно раннему для меня времени 7:30 утра. Мой рабочий день начинался в 7:30 утра. С Матросской Тишины до Перовского рынка непросто было добраться, поэтому, выходя из дома, я смотрел, какая грузовая машина идёт в моём направлении, и если она шла в нужном мне направлении, я прыгал в её кузов. Естественно, приходилось часто менять транспорт, т.е. грузовики, т.к. они капризно могли свернуть с нужного мне маршрута. Каждый обед мы, рабочие фабрики, висели на заборе, который отделял наше предприятие от Перовского рынка, наблюдая за многообразной и удивительной жизнью его.  Перовский рынок – было ли это наследие того, что мы находили в книгах французских гигантов XIX века, рассказавших о злачных местах Парижа, в том числе о «блошиных» рынках, где можно было купить или продать всё что угодно или это было типично русское создание, существовавшее веками, – не знаю, я не исследовал эту тему, я был свидетелем расцвета этого феномена, начавшегося, если говорить о моей эре, в годы войны. Мы с братом часто бывали в те трудные годы на Преображенском рынке, где шла торговля всем: как продуктами, так и одеждой и предметами домашнего обихода. На Перовском же рынке, за забором которого я работал на фабрике в 1949 году, в отличие от других московских рынков, продуктов не продавали. Это было гигантское столпотворение людей. Сойдя с трамвая на шоссе Энтузиастов, вы тут же попадали в людской круговорот, в котором совершались многочисленные сделки по купли-продажи носильных вещей и других предметов первой необходимости, которые невозможно было «добыть» в то время в магазинах. И так продолжалось по всей длине и ширине улицы, ведущей к входу в рынок. А там... там продолжалось тоже самое, что и на улицах, окружающих рынок. Естественно, это было место, привлекавшее наибольшее количество разного рода уголовников и мошенников. На подступах к рынку расположились те, кто держал старую, наверное, как человечество мошенническую игру: фанерку с тремя картами. Владелец показывал публике три карты, из которых один был туз, а затем, быстро манипулируя руками, бросал их на фанерку лицом вниз, предлагая отгадать, которая из этих карт туз, предварительно желающие должны были сделать денежную ставку. Эта игра широко культивировалась черными обитателями Нью-Йорка на Таймс Сквер в 70-80-тые годы, и многие туристы попадались на эту примитивную затею. С приходом же к власти мэра Рудольфа Джулиани эту мероприятие прикрыли. Тут же невдалеке стояли их конкуренты, которые теперь уже бросали связанную в круг верёвочку, которая падая на фанерку, образовывала две петли. Теперь уже предлагалось поставить палец в одну из петель, опять-таки предварительно сделав ставку. После чего хозяин игры тянул за одну сторону: если петля не замыкалась на пальце, то сделавший ставку проигрывал, в противном случае он выигрывал, что происходило в одном случая из ста. Была ещё одна тоже старинная игра мошенников, в которую вовлекали невинную публику. Техника её состояла в том, что желающим, естественно за деньги, прилагалось отгадать под какой из трёх чашек, конечно после того как владелец игры манипулировал этими чашками, быстро передвигая их по фанерке, лежит грецкий орех. Часто в обеденный перерыв мы повисали на заборе и всегда были свидетелями необыкновенных рыночных происшествий. Как я уже говорил, на самом рынке была очень густая толпа. Однажды мы наблюдали такую картину: пожилой порядочного, приличного вида мужчина продавал костюм,. К нему подошли два молодых человека, один стал примерять пиджак, второй давал советы, заинтересованно держа и вертя в руках брюки. Как вдруг продавец буквально взвыл, завыл страшным голосом, оборачиваясь в противоположную сторону и вытягивая из своего зада шило, и развернулся назад. Оказывается кто-то сзади воткнул ему шило в мягкое место. Когда же, придя в себя и быстро вытащив шило, он повернулся к примерявшим его костюм парнишкам-покупателям, их и след простыл, они исчезли вместе с костюмом. Милиция – было заметно её присутствие, но редко было видно, что она активно вмешивалась в происходящее. У каждого держателя фанерки был напарник, который следил, чтобы милиционер не нагрянул неожиданно, т.е. как говорили блатные, а теперь и члены русской Думы, «стоял на шухере». Думаю, что если милиция и задерживала кого-то за мошенничество и воровство, уголовники откупались почти всегда. В мои несколько приездов в Москву в период распада Советского Союза я заметил, что город превратился в большой, как и в былые голодные времена до войны и немедленно после неё, в большой «блошиный рынок» – теперь у всех станций метро стояли старухи и крестьяне. Если первые продавали всё, начиная с носков, кончая цветами, то вторые выносили на продажу теперь уже скудные продукты земли. Опять наступила всеобщая нищета. *** И ещё. Кстати между фабрикой и рынком удобно устроилось Перовское кладбище. Вскоре после поступления на фабрику, во время обеденных перерывов я с сисястой Шурой (а может и Клавой?, моим соратником по профессии, девушкой старше меня лет на пять из подмосковного села – подмосковной деревни, – которая, как и я, шила тапочки, сидя рядом на соседнем со мной табурете со скоростью в несколько раз превышающую мою) отправлялся целоваться на находившееся тут же за забором фабрики и рынка Перовское кладбище, где румяная, с красно-морковного цвета щеками и невероятно большой грудью, огромными грудями, пахнувшая не очень качественной домашней пищей мясомолочная Шура позволяла мне всё – и я этим пользовался, но строго в границах выше пояса, т.к. даже представить себе не мог, что мне действительно разрешено всё как выше, так и ниже пояса.  Каждый обед мы ходили на кладбище, где целовались с большим удовольствием. Не делаю тайну из того, что мой маленький водопроводный краник превращался в наконечник пожарного шланга. Никакого преувеличения – он был и есть самой более чем нормальной человеческой величины, естественно, с моей точки зрения. В понимании 17-летнего девственного юноши, воспитанного пуританской мамой, существовало столько запретов, что даже зов природы не мог преодолеть их. Думаю, что она хотела большего, как и я, однако я был девственником и не мог быть инициатором. Дальше поцелуев дело не шло, мы не осквернили жилище усопших москвичей по двум причинам: во-первых розовощёкая полногрудая Клава, которая была на 5-6 лет старше меня, не имела возможности видеть шедевры американского телевидения, где девушки в её ситуации быстренько расстёгивают ширинки невинных юношей, кем я был в то время; во-вторых, хотя она и не была верующим человеком, но строго почитала традиции её предков, так что даже наши страстные поцелуи и энергичные исследования тела друг друга не привели к «грехопадению». Много позже я понял, что Шура не только позволяла, но и желала всего, а я по-дурацкой неопытности не удовлетворял ни её, ни свои нужды. Возвращаюсь к тому как мы устраивались на работу. Я не поставил преднамеренно слово блат в кавычки, т.к. действительно на все вышеперечисленные работы меня с братом брали благодаря каким-то знакомствам, связям. *** Моё первое свидание состоялось, когда мне было уже 17-ть. По возрасту и по существующим тогда московским стандартам это была “девочка”: ей было 14-ть. Звали её Нина Белимович, происходила она из полькой очень культурной семьи, как я думаю, с достатком, т.к. они жили в собственном доме в Богородске, рядом с заводом “Красный богатырь”. Она мне более, чем нравилась. Эта была какая-то нормальная ненормальность: несмотря на её 14-ть лет, у неё всё было в порядке. Нина мыслила и вела себя как женщина, но как недоступная женщина. И физически она выглядела как женщина, только всё было в слегка уменьшённых размерах. У неё была тонкая талия и развитые бёдра; при ходьбе она ими слегка покачивала. Её грудь была под стать всему остальному. Она была юна и прекрасна. И всё-таки, глядя сейчас на десяти-двенадцатилетних пуэрториканских и негритянских девочек, которые приобретают сексуальный опыт в возрасте, о котором мне даже стыдно заикаться, хочется задаться вопросом: “А не слишком ли быстро мужает человечество?” Мне не пришлось сорвать у Нины ни одного поцелуя, несмотря на то, что она явно предпочитала меня всем другим её почитателям, которых было довольно много, или мне так казалось? Её мама любила собирать знакомых Нины у себя дома, где Нина играла на рояле, а мы ею восхищались.  Так это продолжалось с некоторыми перерывами до тех пор, пока я не ушёл в армию. Там я узнал, что за Ниной ухаживает мой школьный товарищ, живший в доме напротив моего, Дима Вайнберг. Но его, как и меня, постигла неудача. Дело в том, что у Нининой мамы, у которой к этому времени из дому ушёл муж, были другие планы для дочери: она хотела непременно видеть её замужем за сыном генерала. Женщина она была волевая и добилась своего. Лет через пятнадцать, когда я ещё жил с мамой на Матросской, я встретил Нину в метро “Сокольники”. Она, нагружённая сумками, очевидно возвращалась с работы домой. Это было печальное зрелище – передо мной была рано состарившаяся женщина, да, да – женщина. В тот же день я позвонил Диме Вайнбергу. Дима сказал, что действительно Нинина мать “победила”: Нина вышла замуж за сына генерала, основным достоинством которого было непрекращающееся пьянство. Мне стало ужасно горько, не только за Нину, но за всех нас, кто так восхищался этим почти совершенным человеком. У меня есть её фотография, которую она прислала мне в армию. Ей тогда было 17 лет. С фотографии на нас смотрит красивая умная голливудская звезда 30-х годов века с причёской того времени.  Мой первый сексуальный опыт, если так это можно назвать, откладывался на неопределённое время, т.к. я был premature ejaculator. Во время школьного выпускного вечера меня увела в соседний со школой садик преподавательница младших классов Лариса. К моему и её огорчению у меня ничего не получилось.  В то же лето я и Юра Носовский завели “роман” с жившей временно в квартире Наума Поволоцкого, другого нашего соклассника, в 3-ем подъезде нашего дома красивой еврейской девушкой Женей, которая была на два года старше нас. Она давала нам недвусмысленные сигналы, которые мы с Юрой правильно расшифровывали и благодаря которым мы все втроём очутились в лесу Измайловского парка. Там мы очень скоро стали по очереди с ней целоваться. Затем один из нас на время удалялся. Я не знаю, что произошло между Юрой и Женей, между мной и ей – ничего. 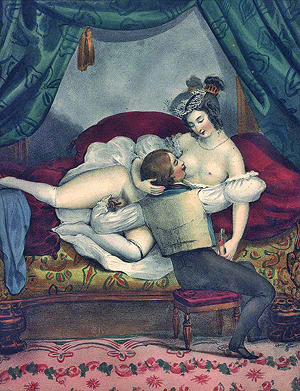 Так закончилась эта романтическая история или как французы говорят: partie a trois – лювовь втроём. *** Только что прослушал передачу нью-йоркского радио о невероятном увеличении за последние годы беременных школьниц в городе Нью-Йорке. Очень много девочек в возрасте 16-ти лет, имеющие по двое детей. Какой прогресс! Хотя то же же радио совсем недавно сообщило, что среди девочек 14-16 лет огромный процент девственниц, объясняя этим, что, боясь забеременеть или заразиться СПИДом, эти девочки с удовольствием берут в рот. Что ж, в этом ничего нового. Моя 89-летняя приятельница Дороти (Dorothy) сказала, что еще в женском университете в пуританской северной Флориде в городе Талахаси в 30-годы прошлого столетия девушки-студентки брали в рот, не находя в этом ничего зазорного. Я думаю, что это было связано с тем, чтобы выйти замуж девственницами, а зов природы был очень настойчив.  К вопросу о грудастой Шурочке. Сегодня раздеваясь в кабинете врача, я обратил внимание на свои груди. Естественно, это случилось не в первый раз, но мысль, к который я пришёл, разглядывая себя, посетила меня впервые, и я аккуратно донёс её до моего компьютера. Меня не относят к числу жирных, т.к. я тонкокостный, однако я совсем и не худой, об этом можно судить опять-таки по моим грудям, которые, как мне кажется, по своим размерам удовлетворили бы меня, если бы они принадлежали бы одной из довольно многих плоскогрудых девушек, с которыми у меня были романтические отношения в юности.  *** Мой приятель композитор Роман Майров, он же Гуценок, окончивший училище Ипполитова-Иванова по классу духовых инструментов, как то объяснил мне, что хороший духовик использует всё пространства в своём теле, включая пах, чтобы набрать как можно больше воздуха, – вот почему мы не встречали выдающихся женщин-духовиков в России. Приехав в Америку и увидев огромное количество женщин в ведущих симфонических оркестрах страны, я понял, что всё зависит от школы, от методов, а высокая профессиональность, по-видимому, не связана с принадлежностью к тому или иному полу. Однако, недавно мне пришлось подвергнуть сомнению роль музыкальных школ Америки в подготовке женщин-духовиков к профессиональной деятельности. Из разговора с Дороти, которой 12 марта 2008 года исполняется девяносто лет и которая к концу 30-х годов закончила женский университет во Флориде, в городе Телахаси, я узнал, что уже тогда девушки увлекались, простите, оральным сексом. Именно поэтому я прихожу к выводу, что использование из поколения в поколение мужского члена как мундштука дало возможность американским женщинам-духовикам стать в один ряд с выдающимися американскими мужчинами профессионалами.  *** Сразу после окончания 10-летки, в июле 1951 года я пошёл на вступительные экзамены в Военный институт иностранных языков.  Сдав успешно два первых экзамены, я пошёл на третий, диктант, которого я боялся. Поэтому я договорился со своим одноклассником Баранниковым, который почти всегда писал диктовки на отлично, давать мне сигналы в трудных местах, связанных с пунктуацией, по разработанной нами системе. Система не сработала, т.к. он забывал давать сигналы. Таким образом я пропустил несколько предложений. Я сдал успешно ещё один экзамен. Перед последним экзаменом нас выстроили на плацу и тем, кто провалил диктант приказали выйти из строя и забрать документы. Я попал в их число и выполнил приказание. Оказалось, что была значительная группа абитуриентов, которая провалила не только диктант, но и следующий экзамен, и многие из которых догадались не выходить из строя и не брать документы. Всех их зачислили на немодное тогда японское отделение. В их числе оказался мой другой одноклассник, Безруков, которого я встретил через несколько лет в Союзэкспортфильме, представителем которого он был в Японии. Можете мне не верить, он выглядел как коренной житель Хокайдо. Заканчивая свой рассказ об эпопеи с Военным институтом иностранных языков, я хочу подчеркнуть, что тех, кто получил одну двойку зачислили на престижное английское отделение, естественно, это были те, кто не вышел из строя и не забрал документы. Какова была ситуация с евреями не знаю, т.к. я не добрался до мандатной комиссии. *** После буйного лета 1951 года, связанного с поступлением в различные московские ВУЗы, включая Военный институт иностранных языков, и похода на приём к первому заместителю министра высшего образования СССР, который благодаря мне выделил 16 дополнительных мест для абитуриентов Московского Геолого-разведывательного института, настал период затишья. Я пытался анализировать, почему же я всё-таки не попал ни в один из институтов, почему я не оказался даже в числе 16-ти, тех самых, которые я “выбил” в Министерстве Высшего Образования СССР. Только через несколько лет я понял: был 51-ый год, последнее слово было не у приёмной комиссии, а у так называемой “мандатной”, которая 100% распоряжалась судьбами поступающих. На вопросы комиссии о моём отце, где он и что он, я не мог ответить вразумительно, т.к. ничего не знал. Не знал я, как ответить и на другие вопросы, связанные с моей семьей. У меня не было планов в отношении того, что делать дальше.   *** Неожиданно “помогла” система – меня призвали в армию на два года, откуда я должен был вернуться младшим лейтенантом запаса. В армию меня призвали в 1951 году. Я попал в Одесский военный округ, в саму Одессу. В городе было две казармы: Котовские, названные так по имени одного из командиров Красной Армии, воевавшего на юге России в Гражданскую войну, и Каховские. Уже в декабре я попал в последние в Одессе и начал бомбардировать Москву своими письмами. Среди моих основных адресатов были три важных для меня в то время человека – все девушки. Я любил их всех – так, по крайней мере, я думал тогда.  Я очутился в Каховских казармах (в 1960-е их переделали в жилой квартал), которые находились невдалеке от линии трамвая номер 1, который шел к Аркадии и Одесской киностудии – филиала Мосфильма, а может быть и студии им. Горького, не могу с точностью сейчас утверждать. *** Много незабываемых впечатлений у меня осталось от 8-месячной службы в Одессе, например, когда наступило лето и я начал бегать в самоволки, другого пути насладиться жизнью на гражданке не было. Поскольку я начал службу в учебном батальоне, увольнений в город не ожидалось и не было. Я решил эту проблему не очень оригинально, т.к. как и многие: мы перелезали через низкий забор, отделявший нашу казарму от реальной, как нам казалось, жизни, ибо вся страна была большая казарма, и отправились в центр города Одессы, хотя мне делать там было абсолютно нечего. Знакомых никаких, денег на развлечения не было, проститутками и онанизмом я брезгую. И все мои годы в армии были бесполовыми. Помню, что в Одессе было два парка: парк «Победы» и парк «Ильича». Не знаю почему, но солдаты шли в парк «Ильича». Помню, как однажды вечером я забредя и придя туда первый и последний раз, я увидел сидящую на скамейке девушку, державшую ногу так, что можно было видеть нарисованную на подошве её туфли цифру «5». На скамейках сидели девушки, положив ногу на ногу, так что была видна подошва туфли. Так вот, на этих подошвах были написаны цены, как правило, 3 или 5.  Но пожалуй самое сильное впечатление было связано с видом разгромленного Второго еврейского кладбища города Одессы. Еврейское кладбище номер один к тому времени не существовало, на его месте, по рассказам моего одесского друга из Нью-Йорка, ещё в середине тридцатых годов построили, если так можно сказать, парк имени Ильича, с именем которого связана рассказанная выше история. По американскому телевидению довольно часто, особенно летом, показывают следы урагана, пронесшегося, как правило, по одному или другому району юго-востока Америки. Эти телевизионные кадры довольно точно напоминают картину разрушений и абсолютного хаоса на еврейском кладбище Одессы. Но если ураган – это проявление неуправляемой воли стихии, природы, то в Одессе я увидел “творение рук человеческих”. Опять-таки, мой одесский друг, совсем не еврей, который провёл годы войны в оккупированной Одессе, абсолютно убеждён, что этот вандализм дело рук самих одесситов, поскольку, по его мнению, немецкие и румынские войска не трогали одесские кладбища. Произошло это после освобождения города Советской Армией. Честно говоря, я верю своему одесскому другу, но в тоже время не могу принять это как 100-процентную правду, помня, что делали немцы с еврейскими кладбищами в оккупированной Европе и в самой Германии. Прошло с тех пор почти 60 лет, а я ни как не могу забыть картину невероятного погрома на 2-ом еврейском кладбище Одессы, так же как я не могу назвать тех, кто принимал участие в этом вандализме “людьми”. (В 1950-е оно, наряду с огромным христианским кладбищем и чумным кладбищем, было официально закрыто, а к 1978 снесено и на его месте разбили Артиллерийский парк). *** Армия оказалась совершенно неподходящим для меня местом. Я думаю, конфликты начались с самого первого дня, и не только с теми, кому я непосредственно подчинялся, но и с разного рода, так называемыми, сослуживцами, призванными в армию из различных районов необъятной Родины. Если первые пытались подавить мою волю: они повторяли всё время одно и тоже: “Не положено”; то для вторых я был просто непонятным существом. Попробуйте рассказать парню из бедной белорусской деревни о новом направлении в итальянском кино или о новых течениях в западноевропейской литературе. И уж, конечно, у ребят из Средней Азии, которые спали рядом на соседних койках, абсолютно собственное представление о чистоте и гигиене. Не думайте, что у меня в армии не было товарищей, их всегда было более или менее достаточно, иначе бы я остался без моральной защиты и моё существование там превратилась бы в ад. Плюс ко всему прочему, как я понял позднее, у меня срабатывает ментальный защитный механизм, который спасает меня в крайних ситуациях. В армии эти ситуации возникали у меня почти ежедневно, а порой и ежеминутно. В любой армии диссиденту – неконформисту – не место, в Советской Армии тем более, поэтому впереди меня ожидало много неприятностей. Не думайте, что я был уже в то время политическим диссидентом, просто я, видимо с рождения, не мог принадлежать ни к одному стаду. Меня влекло в самоволки только одно: я не мог находиться в клетке, не мог даже думать о том, что несколько месяцев я буду жить в обстановке, которая мало чем отличалась от тюремной. Представьте себе казарму, где в одной комнате спало 400 человек, все с молодыми и в тоже время разными желудками; плац, где во время ежедневной строевой подготовки мы в любую погоду – в снег и в дождь – месили слякоть, доходившую до щиколоток, а иногда по команде плюхались в неё; уборную с 30-ю дырками (на самом деле 64), в которую войти было невозможно из-за страшной вони; столовую, где кормили на 56 копеек в день, из которых значительную часть воровали повара и снабженцы. Насколько я помню, батон белого хлеба, который солдату был не положен, стоил тогда 13 копеек, буханка чёрного хлеба – 20 копеек, один килограмм мяса – от двух до трёх рублей, очень высокие цены были на овощи и фрукты, которые также не входили в рацион солдатского питания, за исключением капусты и картошки. Кормили, одним словом, двумя-тремя видами круп, супом из той же капусты и картошки, на поверхности которого плавал жёлто-оранжевого цвета жир, чёрным хлебом армейской выпечки, а на праздники, такие как Первое Мая, 7-ое Ноября и Новый Год, давали на третье стакан компота. В связи с этим вспоминаются сведения, которые я подчерпнул из беседы с моим другом Яшей, сын которого служил в израильской армии. Во-первых, его сын работал на двух работах, естественно, кроме службы в армии. По субботам он был вышибалой в клубе и ещё два дня преподавал малышам приёмы дзюдо. Его отпустили на соревнования в Турцию, где он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо. И ещё очень важная деталь: во время службы в армии Саша, так зовут сына Яши, навестил своего отца в Нью-Йорке, т.к. по израильскому закону военнослужащему срочной службы израильской армии разрешается посетить родителей, если они живут заграницей. Для тех, кто служил в Советской Армии – это чудеса и не более. Старшина моей роты был хохол Авраменко – старый служака, человек с устрашающим голосом и мягким сердцем. Время от времени он давал мне наряды вне очереди. Однажды он приказал мне перемыть ночью все табуретки батальона. Двое дневальных после отбоя перенесли табуретки со всего батальона в умывальник, устроив там гигантскую пирамиду. Я же, взяв несколько шинелей, забрался на самый верх и, удобно устроившись, проспал там до самого подъёма. Представляете, что случилось, когда по сигналу трубы все бросились умываться!.. В другой раз старшина за какое-то нарушение отправил меня на кухню мыть посуду. Как раз в тот день нашу часть инспектировала комиссия командующего Одесского военного округа. Заглянула она и на кухню, где поинтересовались, как моется посуда, для объяснения почему-то выбрав меня. Тут меня как чёрт подстегнул, и я стал рассказывать им, что в начале под сильной струёй кипятка мы смываем с тарелок остатки пищи, потом полощем их в чане с горячей водой, далее кладем их в чан с мыльной водой, где мы их тщательно моем щётками, которых у нас тогда и в помине не было, затем в другом чане снова полощем и так повторяем несколько раз. Комиссия осталась вполне удовлетворённой моим фантастическим объяснением. Конечно, она бы могла на деле узнать из какой посуды ест рядовой и сержантский состав срочной службы, если бы она прошла в столовый зал, который находился в не более, чем в десяти метрах от мойки, и посмотрела бы на эти жуткие серые от несмываемой грязи, помятые, алюминиевые, покрытые жиром тарелки. Я бы не сказал, что моя служба протекала с попеременным успехом, даже наоборот, без всякого успеха. Однако, вскоре пришла весна, а за ней и лето, и нас вывезли в лагеря под Одессу, где я впервые попал на гауптвахту, не помню за какие провинности. Помню только, что каждый вечер я и мои сокамерники смотрели кино через очень маленькое окошко, врезанное под самым потолком камеры. Всего я пробыл там трое суток – это было моё первый знакомство с армейской тюрьмой. Всего за время пребывания в форме я набрал 250 суток. Не удивляйтесь, за три с половиной года в том или ином качестве в армии я не получил ни одного увольнения в город. Извините за армейский сленг. Итак, как вы помните, наступило лето, а вместе с ним неожиданное улучшение в моей армейской судьбе. Кому-то я рассказал, что до призыва в армию я регулярно занимался плаванием и играл в водное поло. Это дошло до начальства и меня отправили на окружные сборы, т.к. скоро в Одессе должна была состоятся Всеармейская Спартакиада. Генетически я не приобрёл ни каких особенных физических качеств, плюс к этому я был “ребенком войны”, т.е. многие годы жил в жуткой нищете и голоде. Соответственно, от меня нельзя было ожидать высоких результатов, но я был крепким второразрядником, а в водном поло я, как минимум, входил в число перворазрядников. Я думаю, что в команде нашего Одесского военного округа я был лучшим брассистом на дистанцию 200 метров. На первенстве округа на моей коронной дистанции тот, кто показывал мне время отрезков заплыва, преднамеренно обманывал меня, т.к. второй по времени пловец на ту же дистанцию был из его подразделения. Одним словом, я оказался на втором месте и не попал на Спартакиаду. К этому времени пришла разнарядка, по которой выпускникам средней школы предоставлялась возможность поехать в то или иное военное училище, где они должны были сдавать вступительные экзамены. Со мной в одном взводе был москвич Юра Пыхтин. Это был не по возрасту благоразумный, очень неглупый парень, с которым я остался в друзьях на многие годы. Юра даже не взглянул на разнарядку. Он сказал, что хочет отслужить свои два года и вернуться к мирной жизни. У меня же был другой план: я хотел выбрать такое училище, которое бы позволило мне на пути туда проехать через Москву, побыть дома несколько дней, провалить экзамены и вернуться в часть, а затем пойти тем же путём, что и Юрий. С этой целью я выбрал Даугавпилское Военно-техническое училище ВВС. Первые две части моей программы я выполнил с успехом, а вернее перевыполнил, т.к. провёл в Москве на три дня больше, чем мне было положено. В Даугавпилсе я сдал два экзамена – один на 5, другой на 4 – и тут опомнился: провалил два других. Но не тут то было: меня зачислили в курсанты училища. Дело в том, что шла война в Корее, где Советский Союз в числе прочего “приобрёл” американский локационный прицел слепого бомбометания и наводки (ПСБН), которым командование ВВС хотело оснастить все бомбардировщики морской авиации среднего радиуса действия – ИЛ-28. Нужны были специалисты по обслуживанию. Если в первом наборе за год до моего на эту специальность взяли 500 человек, то наш второй должен был состоять из 2400. Меня зачислили с двумя е положительными отметками и с двумя двойками. Это напомнило мне другую историю из моей непродолжительной к тому времени жизни, эпопею с Военным институтом иностранных языков.  Итак, Даугавпилское училище размещалось на окраине сильно разрушенного войной города Даугавпилса – столицы самой бедной части Латвии Латгалии, в старинной крепости. Уже на следующий день после зачисления нам представили командира учебного взвода старшего лейтенанта Ерёменко. Во взводе было два отделения, каждому отделению нужен был командир, которым мог быть только курсант. Взводный, собрав наше отделение, спросил, кого бы они хотели видеть их командиром. Неожиданно для меня почти единогласно выдвинули мою кандидатуру – я был единственным среди них, кто пришёл в училище из армии. Я попытался отказаться, т.к. никогда в жизни не руководил ни кем, да и не хотел этого. Однако после долгих уговоров согласился, совершив одну из серии серьёзных ошибок в своей жизни. Я убедился в этом довольно скоро, т.к. отделение состояло в основном из москвичей и ленинградцев, которые попали в училище сразу после десятилетки, не имея ни малейшего представления о воинской дисциплине. Я не хотел быть ни тираном, ни тем, кто навязывает свою волю другим, но представьте моё состояние, когда начальство выстраивает роту, а у меня больше половины личного состава отсутствует и я не могу объяснить, где эти люди, прикрывая их. Между тем, они просто-напросто “ушли” по своим делам, т.е. на военном языке это называется “в самовольную отлучку”. Уговоры не помогали. Ребята стали относиться враждебно ко мне. Особенно в этом усердствовали три москвича, три друга, которые жили в Москве в районе завода “Серп и Молот”. Они больше всего ратовали за то, чтобы я стал командиром отделения и они же первые подставили меня, уходя из крепости, когда только им захочется, не говоря мне об этом, хотя это было очень важно для того, чтобы я мог их и тем самым самого себя прикрыть. Я их хорошо помню. Толя Чекулаев – всем довольный и самодовольный, невысокого роста, крепыш, я бы сказал, с приятным лицом и картавой речью, не на что не претендующий. Витя Бородулин – нервный тип, вечно грызущий ногти, с воспалёнными беспокойными глазами, у которого при малейшем нервном напряжении по всему лицу разливались красные нервические пятна. Он хотел, чтобы его принимали за интеллектуала, но для этого у него не хватало ни эрудиции, ни столичного интеллектуального лоска. Третьим в этой компании был их заводила, Алик Галкин. Вспоминаются его внешность и повадки. Был он ростом ниже Толи Чекулаева, довольно худой, с кривыми ногами профессионального футболиста, ходил как-то иноходью, говорил немного, но с авторитетом, был явным хитрованом, но обладал не городской утончённой хитростью, а простонародной, я бы сказал, деревенской. Он тайком, по моему мнению, настраивал своих друзей против меня. Мои отношения с ними, а вместе с ними и с некоторыми другими подчинёнными ухудшались с каждым днём. Однажды проснувшись, я обнаружил, что в мои сапоги пописали. Поняв, что командирство мне ни к чему, я стал сам ходить в самоволки и пить. Я думаю, что я пробыл на этом посту не больше полутора-двух месяцев, потеряв дружеские отношения со многими, но далеко не со всеми. В другом отделении нашего взвода было два ленинградца: Володя Юрин и Витя Эсерлин. Особенно я сдружился с Володей. Наши отношения продолжались и после того, как мы расстались с армией, хотя это стоило мне немало здоровья, т.к. мой друг пил, я бы сказал, по-ленинградски, без перерыва. И Виктор и Владимир были настоящие поэты. Причём, я думаю, что Виктор Эсерлин вырос бы до уровня близкого к Бродскому, если бы он не употреблял гигантское количество водки. Был он сыном крестьянки и петербургского дореволюционного еврейского миллионера. Виктор относился ко мне по-дружески, но слегка скептически. Зато Владимир возмещал скептицизм своего товарища-конкурента, я имею ввиду поэзию, свойственной ему теплотой. От них я получил первые уроки серьёзного политического образования, хотя они об этом даже не подозревают. Именно они стали основоположниками моего политического диссидентства. 5-го марта 1953 года часть мира вздрогнула, часть мира вздохнула, другая часть затаилась в ожидании, а что будет дальше – одним словом – событие, случившееся в Москве, не оставило никого равнодушным. В этот день было объявлено, что умер Иосиф Виссарионович Сталин. Я горевал вместе с огромным большинством советского народа. Помню, придя в небольшой городской бассейн Даугавпилса на тренировку и увидев огромный портрет вождя без крепа (красного с чёрным), я подошёл к директору бассейна и с возмущением потребовал, чтобы были соблюдён ритуал траура. Тот выслушал меня без особого внимания и ушёл заниматься своим делом. Конечно, он был латыш. Я получил щелчок по носу, а вместе с ним урок политического образования. Следующий урок был более серьёзный. Через несколько дней состоялись похороны вождя. Всё училище построили на плацу, командование собралось на специальной трибуне и затем угостило нас проникновенными речами, которые закончились включением прямой трансляции из Москвы, с Красной Площади. Члены Политбюро выступали одним за другим, стоя перед микрофоном на трибуне мавзолея Ленина. Настала очередь Лаврентия Павловича Берия, который, как полагается настоящему представителю Кавказа, вложил в свою речь массу эмоций и присущей моменту горечи. Неожиданно посреди своего проникновенного выступления Лаврентий Павлович заплакал. Это был потрясающий момент, я запомнил его на всю жизнь, и не только потому, что заплакал член Политбюро, руководитель организации, имя которой боялись даже произносить вслух, а ещё и потому, что стоявшие недалёко от меня Володя Юрин и Витя Эссерлин вдруг рассмеялись. Смеялись они не долго, зато очень много времени потом провели в кабинете командующего училищем, куда они попали немедленно после окончания митинга. Ни они, ни кто другой не думали, что всё окончится без последствий. И все ошиблись. После этого эпизода Виктор, Владимир и я провели несколько бесед, которые дали мне толчок к размышлениям на многие дотоль не затронутые мною темы. Так я стал понимать, что патриотизм без знания истории своей страны, того, как складывается национальный характер народа этой страны, и что этот характер представляет сегодня, – это совсем не патриотизм, а что-то близкое к шовинизму. Как правило, нежелание читать – ментальная лень – или читать так, как удобно идеологам, тем, кто диктует политику сегодняшнего дня, – это удел злых или ментально неадекватных людей, которых на моём жизненном пути я встретил несметное множество. Близость с двумя неординарными ленинградцами существенно повлияла на моё мировоззрение, я бы сказал, что это было отправной точкой, которая дала определённое направление моему мышлению на всю жизнь. Уже через несколько месяцев я пришёл к твёрдому решению, что армия не для меня. Однако вскоре наступила весна. |