 |
 |
*** С 1950-го по 1953 год Америка воевала на Корейском перешейке. Война была между Северной и Южной Кореями с участием США и поддерживающих её под флагом ООН около 20 стран Запада. В середине 53-го года начались переговоры о перемирии, которые неоднократно нарушались северокорейской стороной. В то же время советская печать сообщала, что перемирие было нарушено в очередной раз южно-корейской стороной. Президентом Южной Кореи в те годы был Ли Сын Ман.  К этому же времени относится моя дружба с Юрой Ежовым, с которым мы закончили одну и ту же среднюю школу и который дабы, чтобы развлечь меня, писал мне в армию, куда я удачно попал после школы, порой очень смешные письма. В одном из этих писем он рассказал мне, что однажды, когда он «трахался» с Любой (которая, как нам всем было известно, не знала , что такое оргазм), Люба начала стонать: «Ой, ой, ой!» – и Юрий поинтересовался у неё: «Ты что, кончаешь?» «Нет, нет, Юра, Ли Сын Ман опять нарушил перемирие». Дело в том... что было включено радио. *** В начале марта 1953 года весь советский народ был в глубоком трауре: умер великий кормчий. Мне до сих пор не понятно, как советские борзописцы могли называть его кормчим, если он уморил голодом несметное количество миллионов людей. Итак, советский народ горевал, но не весь. Как я уже писал выше, мне пришлось столкнуться с отношением латышей к смерти Сталина. Думаю, что вся Прибалтика подобным образом отнеслась к этому событию. Не знаю, какова реакция была жителей Западной Украины, думаю, что такая же, как и у прибалтийцев. И ещё одно событие произошло тогда же, о котором вспомнили только годы спустя: в день смерти Сталина не стало Сергея Прокофьева, которого каким-то образом советские власти уговорили вернуться в Россию из эмиграции и которого Сталин преследовал до логического конца.  В связи со смертью Сталина новая кремлёвская банда, во главе которой были Маленков и Хрущёв, объявили амнистию, под которую подпало огромное количество закоренелых уголовников. Таким образом на воле очутились миллионы тех, чья основная и только профессия были воровство и грабежи. В стране творилось что-то невероятное. Количество разного рода преступлений, у меня нет статистических данных, но я думаю, не удесятирилось, а стало в двадцать раз больше, чем в последние годы жизни Сталина. Я не социолог, поэтому не буду углубляться в исследование причин происшедшего, хотя понимаю, почему это случилось, как все, кому довелось жить в те незабываемые времена. В то время я был курсантом военного училища и мне полагался летний месячный отпуск. В августе нас всех отправили в месячный отпуск, который, естественно, я провёл в Москве и который был полон разного рода приключений. В Москве мало что изменилась, за исключением... Мама сказала, чтобы я был осторожен. Дело в том, что после смерти Сталина Берия объявил всеобщую амнистию для уголовников.  В один из дней после приезда я проезжал днём на трамвае по Комсомольской площади или Площади Трёх вокзалов, будучи в полной курсантской форме и стоя на задней площадке. Когда трамвай ехал мимо Ленинградского вокзала, неожиданно ко мне в присутствии всех пассажиров подошёл небольшого роста неопределённого возраста парнишка, явно уголовного вида, вытащил нож и потребовал дать ему деньги. Это произошло на виду у всех пассажиров. Надо отметить, что я был в военной форме курсанта. Почему он выбрал меня, не знаю. По молодости я послал его...., по глупости денег я ему не дал, что не привело ни к каким последствиям. Такова была ситуация в Москве. Кремлёвские мыслители вскоре опомнились и стали быстрыми методами загонять обратно в лагеря разбушевавшихся блатных. *** Не помню сейчас, как я проводил отпускное время, но одно событие осталось в моей памяти на всю жизнь. К концу первого года обучения троица из Пролетарского района, как вы помните, они жили районе завода “Серп и Молот” – Толя Чекулаев, Витя Бородулини и их вожак Галкин (имени не помню) – несколько изменили своё отношение ко мне, и в Москву мы отправились, не испытывая глубоких враждебных чувств. Не помню, дал ли я им мой адрес или они нашли его каким-то другим путём, только однажды я был приглашён ими на вечеринку. К тому времени я уже мог выпить довольно много, и не только благодаря дружбе с двумя одарёнными ленинградцами. Не могу похвалиться, но именно благодаря этой вечеринке я лишился невинности – уже пора было. Мы напились там настолько, что в начале я целовался в ванной с подругой Вити Бородулина, а потом с невестой Толи Чекулаева. Помню кто-то бегал по квартире и кричал: «Толя, Толя она тебе изменяет». История закончилась на следующий день, когда, стоя на лестничной площадке около моей квартиры, где я чистил обувь, я увидел поднимающуюся по лестнице невесту Толи Чекулаева. Как она нашла мой адрес, до сих пор для меня загадка. Потом были кусты парка Сокольники, где я стал “настоящим” мужчиной. Мы встретились ещё пару раз в Москве.  Потом она увидела меня через несколько месяцев зимой, когда приехала в гости к своему жениху в нашу крепость в Даугавпилс. К тому времени я точно знал, что не хочу быть профессиональным военным и поэтому мой внешний вид соответствовал моему решению. Одним словом, она увидела на фоне подтянутого, гладковыбритого будущего мужа Толи Чекулаева жалкое зрелище: заросшего, в жуткой шинели, какого-то помятого Марата Катрова. *** Весной или ранним летом 1954 года я должен быть закончить Даугапилское училище, но к этому времени я твёрдо решил, что профессиональным военным я не буду. Об этом я доложил своему начальству, и вскоре последовал вызов к генералу – начальнику училища. Не помню всего содержание нашего разговора, но одну его часть помню очень хорошо. Неожиданно генерал спросил меня: а не хочу ли я быть бортинженером. Идея мне показалась заманчивой, учитывая, что мне было тогда 21 год, и я сказал: конечно хочу. На что генерал сказал, что мне надо будет сделать три прыжка с самолёта с парашютом. Никто и ничто в мире не может меня заставить прыгать с парашютом, хотя Дария (Даша) – моя вторая жена – делает это регулярно. Очевидно, мы с ней созданы из разного материала, вот почему мы и разошлись. Учитывая, что в те времена окончившие среднюю школу служили 2 года так называемой действительной службы, а я, к моменту поступления в училище, отслужил только восемь месяцев и пребывание в училище не шло в зачёт действительной службы, если ты не закончил училище, мне оставалось дослуживать в солдатах ещё год и четыре месяца. Так я попал в древнюю столицу Литвы Каунас, где на её окраине дислоцировался Отдельный зенитный батальон Прибалтийского военного округа (744-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, в/ч 33817, г. Каунас). Несколько событий из пребывания в Каунасе навсегда остались в моей памяти. Старшиной роты, куда меня в начале определили, был старший сержант сверхсрочной службы (это работа для многих на всю жизнь) литовец, фамилию которого я не помню. Помню только, что он очень дорожил своим авторитетом, что я немедленно заметил и что в скором времени привело к его демобилизации. В Советской Армии, как правило, перед сном солдат выводили строем на прогулку, где они распевали патриотические песни. Можно, я думаю, понять моё состояние после более или менее приличной еды в училище и далеко не суровой дисциплины там. Строевые части совсем другое, моё настроение, я бы сказал, его вообще не было. Я не брился каждый раз, когда была такая возможность, ходил в жутко потрёпанной шинели, мой вид в общем напоминал документальные кадры времён Второй Мировой войны, показывающие советских военнопленных в немецких лагерях. Несмотря на мою общительность, я увиливал от всего, чего только можно было. В один из прекрасных летних вечеров старшина вывел роту на очередную прогулку. Я плёлся где-то с самом хвосте колонны, понуро опустив голову, шагая не в ногу с остальной ротой, которая с огромным энтузиазмом распевала определённый набор советских патриотических песен, думая свои невесёлые мысли. Вдруг я услышал голос старшины: «Рядовой Катров, почему Вы не поёте?» Это было так неожиданно, настолько я был погружён в свои мысли, что я не нашёл ничего лучшего, чем сказать: «А не сплясать ли мне для тебя?» Надо сказать, что основной костяк нашей роты составляли малообразованные деревенские парни из Белоруссии, Казахстана, Армении и Азербайджана. От ребят из Закавказья, многие из которых попали в армию после тюрьмы, я узнал, что такое анаша-марихуана и что в тюрьме намного легче переносить срок, чем в штрафном батальоне, куда я жутко боялся попасть, т.к. моё поведение шло вразрез с фундаментальными правилами поведения в Советской Армии. Мой ответ вызвал взрыв громкого смеха. После этой злополучной для старшины прогулки я заметил, что многие солдаты резко изменили своё отношение к старшему сержанту: они не бросались немедленно выполнять его приказания, они, порой, даже высказывали словами или своим поведением ему своё недовольство. Поняв, что его авторитет подорван раз и навсегда, осенью он уволился со службы. Но до этого наш батальон, вооружённый американскими (так я думал до недавнего времени, а в 2009 году узнал, что они были шведскими) 40-миллиметровыми зенитными орудиями «Бофорс», полученными по ленд-лизу в период Второй Мировой войны, естественно из Америки, отправился на стрельбище в Палангу – популярный курорт, в 40 километрах от морского порта Клайпеды, на берегу Балтийского моря. Естественно, стрельбище было не в самом курорте, а в четырёх километрах от него. В мои обязанности входило выгружать с грузового «студебекера» электрический генератор, который питал энергией ПУАЗО (Прицел Управления Артиллерийско-Зенитным Орудием), завести его и поддерживать его в рабочем состоянии во время стрельбищ, а по окончании манёвров погрузить его на тот же «студебекер». На погрузку и разгрузку мне давали в помощь троих солдат, т.к. генератор весил больше 200 килограмм. На полигоне орудийные части располагались согласно калибру: в самом начале 37-миллиметровые пулемёты, затем мы – 40-мм, далее 54-мм, за ними 100 с чем, и я не помню, были ли зенитные орудия более высокого калибра. Самолёт с мишенью-колбасой появлялся слева над морем, там, где находились 37-мм пулемёты, и летел вдоль полигона, давая всем калибрам возможность отстреляться. Надо отметить, что мои отношения со сном совсем не дружелюбные. До армии и сразу после службы в ней и до сих пор я очень чувствителен к любому шуму. Однако на стрельбище в Паланге произошла метаморфоза. Как только начинались стрельбы и никому не было дела до меня, я ложился спать. Спалось мне изумительно хорошо, и только окончание стрельб было концом моего ни чем не потревоженного сна.  Через день или два после начало стрельбищ меня вызвал командир роты и сказал, что на следующих стрельбах я буду наводчиком, т.к. на прошедших стрельбах расчёт наводчиков, состоявший из двух казах (один ловил цель по вертикали, другой по горизонтали, и, когда мишень попадала в крест, давалась команда «огонь»), чуть не сбили самолёт, который тащил мишень, используя в качестве мишени не «колбасу», а сам самолёт. Пилоты категорически отказывались участвовать в проводившихся учениях, если не заменят, по их словам, идиотов, которые чуть их не сбили. Ротный также сказал, что если стрельбы пройдут успешно для меня лично как наводчика, то он имеет право отпустить меня в отпуск аж на целый месяц. Это было очень заманчиво, но я отказался, мотивируя тем, что я не проходил специальной подготовки. Конечно, было понятна мотивировка командира роты: лучше нетренированный москвич, чем прошедшие специальную тренировку парни из казахского аула. Итак, я не покинул своего «барана»-генератора, только теперь прибавилось ещё одна служба: стоять в карауле. В одну из таких караульных ночей, когда я стоял на посту около военторга, в котором продавалось и одежда, и продовольствие, и сигареты, ко мне вышел из темноты бывший вместе со мной в карауле, но на тот момент свободный от вахты, азербайджанец. Он попросил меня впустить его в магазин. На что я ему сказал, что всё закрыто. Он же сказал, что знает, как попасть туда. После этого разговора я стал продолжать ходить вокруг магазина, а он исчез куда-то. Через какое-то время неожиданно меня окрикнули, употребив пароль. Подошёл разводящий с другим караульным и сказал, что меня меняют, хотя до окончания моей смены оставалось довольно много времени. Так на мою замену встал караульный, казах. Как же протекали события после того как меня сменили?.. Через некоторое время после того, как казах заступил на пост, он услышал, как кто-то почти шёпотом зовёт: «Марат, Марат». Обойдя военторг, он увидел в яме под магазином (вспомним, что мы были в Паланге на пляже, так что вырыть яму в песке не стоило большого труда) человека, в котором он признал одного из караульных. Я употребляю «казах», «азербайджанец», т.к. не помню по прошествии времени имён. Азербайджанец, поняв, что произошла смена караула, пытался уговорить казаха отпустить его, однако он попал не на того человека. Сменивший меня часовой выстрелил в воздух, вызвав разводящего. Естественно, пришедший караул арестовал неудачника. Когда несчастного азербайджанца обыскали после ареста, у него нашли четыре плитки шоколада, две пары часов и несколько пачек сигарет. А на следующий день арестовали и меня, посадив в одну из свободных палаток, стоявших на песке. Как я понял из дальнейших событий и бесед с разными людьми, мой напарник по караулу, азербайджанец, с которым я иногда перебрасывался двумя-тремя фразами, решил, что я предпочитаю тюрьму службе в армии. Хотя он был не далёк от истины, но прямиком я ему этого никогда не говорил. Таким образом он сделал меня своим сообщником, решив помочь мне. По окончании манёвров нас обоих под охраной привезли в Каунас, где поместили до начала суда на гарнизонную гауптвахту. По прибытии в Каунас меня поместили на гарнизонную гауптвахту, с которой я был довольно хорошо знаком. Однако, если до сих пор я всегда сидел в общей камере, то на сей раз я попал в одиночку. Очень быстро я понял, что не выношу подобного заключения. Вначале я пытался взрезать себе вену на руке. С этой целью я пытался заточить ложку о бетонный пол. Не вышло. Тогда я стал с разбегу бить по железной двери ногой. Уговоры часовых меня не успокоили. И, о чудо: дверь сорвалась с петель и я пошёл в общую камеру, дверь которой оказалась незапертой. Не могу объяснить почему, но меня не стали водворять в одиночную камеру. Зато в эту же отсидку в меня стрелял озверевший, не могу вспомнить почему, один из караульных гауптвахты, литовец. Я успел нырнуть за угол, он промахнулся. Не помню, как проходил суд, помню только, что азербайджанец получил четыре года лагерей. Что же касается меня, то суд не нашёл в моих действиях состава преступления, мне удалось нейтрализовать обвинения прокурора, построенные на показаниях азербайджанца. Однако, это был не конец моих приключений в Каунасе. Вместе со мной в зенитный батальон попал ещё один курсант из Даугавпилского училища Давид (Додик) Парадис. Был родом из Днепропетровска, небольшого роста и лёгкого характера, боксировал в весе мухи, на переднем верхнем зубе носил золотую коронку, и, в общем-то, как мы говорили в те времена, был слегка приблатнённым, а в остальном отличный парень. Я был дружен с ним ещё в училище, хотя мы были в разных подразделениях. По прошествии времени его назначили каптенармиусом. Мы довольно часто отправлялись с ним в самоволку. Однажды вдвоём пошли в какой-то танцевальный клуб, где подрались с местными литовскими парнями. Не секрет, что прибалтийцы ненавидели всё, что было связано с Россией, с Советским Союзом. Свою злобу эти парни выместили на нас. Особенно серьёзно пострадал Додик: его всё лицо было в мелких порезах. Убежав из клуба, мы нашли больницу, но нам пришлось и оттуда убежать, т.к. персонал, увидев изрезанное лицо Дода, немедленно вызвал патруль из комендатуры. Между нами и нашей частью была довольно широкая река, оба берега которой соединял охраняемый железнодорожный мост. Было уже начало зимы, но что пьяному река, когда ему море по колено. На пути к берегу нам попался какой-то нетрезвый литовец, видимо хотевший пообщаться с нами. Не знаю почему, однако кто-то из нас ударил его рукояткой пистолета по голове и он свалился. У кого был пистолет и как он к нам попал – загадка. Переплыв реку, мы добрались до части, куда вскоре явился патруль. Нам повезло: никто нас не продал. И ещё один эпизод. Летом наша часть стояла на охране аэродрома в Ионашкис под Каунасом, где базировались морские бомбардировщики ИЛ-28. Жили мы в одной предлиннющей землянке. В один из жарких дней я стоял у входа в свою часть землянки, беседуя с сержантом. Как вдруг он мне говорит: «Смотри, смотри, сейчас они убьют твоего Додика». Посмотрев в сторону, где находился другой вход в землянку, я увидел, что четверо огромных белорусов в полном обмундировании окружили Дода, который был босой в одних плавках. Я не слышал, о чём они говорили, зато увидел как один из окруживших Дода поднял ногу, обутую в кирзовый сапог, чтобы ударить его, и вдруг оказался сидящим на заднице. Без преувеличения могу сказать, что эта картина повторилась ещё 2-3 раза. Представляете, каким уважением был окружён Давид до самой демобилизации. Как я уже говорил, Дод был каптенармусом. Однажды он пригласил меня к себе в каптёрку и спросил, или я хочу выпить. «Естественно», – ответил я, – «но где взять деньги?» «Это не проблема». С этими словами он снял с полки чемодан и при помощи отвёртки вскрыл его. Портянки новые, портянки стиранные, гимнастёрки как новые, так и стиранные; содержание чемодана, хотя меня и несколько удивило, но в то же время указывало на то, что его владелец – бедный парень из белорусской деревни готовится к демобилизации. Дод взяв пару новых и пару стиранных портянок и закрыв чемодан, проделал подобную операцию с парой других белорусских чемоданов. Осталось дело за небольшим. Наша часть находилась на холме, а внизу под холмом расположились лачуги бедных обитателей предместья Каунаса. Была уже зима, снега выпало навалом, так что ни мы, ни наши задницы не пострадали, когда мы на огромной скорости спустились вниз. А там в каждой лачуге нас ждало желанное – самогон. Говорили, что литовцы клали для крепости в самогон куриный помёт. Меня это не могло спугнуть, т.к для того, чтобы уйти из армии по болезни, я попросил приятеля – студента медицинского института – прислать мне туберкулёзную сыворотку, которую я выпил до последней капли. Увы, я не заболел и даже остался жить. Помню песню, которая мы постоянно распевали в Литве: Где вёдрами льётся дигтини, Там нашему брату герай. Дигтини в переводе на русский с литовского – водка; герай – хорошо. На этом мои приключения в Отдельном зенитном батальоне Прибалтийского военного округа не прекратились. Не помню, каким образом я познакомился с миловидной литовской девушкой, которая была, я думаю, на пару лет старше меня. Почему я акцентирую внимание на её возрасте: дело в том, что она была секретарём партийной организации довольно большого завода. В связи со своим, я бы сказал, невменяемым характером, который почти не изменился к сегодняшнему дню, а я пишу эти строки в возрасте 74-х лет, я совершенно не выносил обращения ко мне командным тоном, а тем более на повышенных нотах. Я никогда не забывал, что я в армии, что я обязан, однако.... Я не фрондирую, отвергая выражение «к моему стыду», таким сотворила меня природа. Как вы понимаете, что это стоило мне: за три с половиной года пребывания в солдатской и курсантской формах мне ни разу не дали увольнение с территории воинских частей, как в Одессе и Каунасе, так и из крепости в Даугавпилсе, где я был курсантом. Но я был вне пределов казарм по своим сугубо личным делам ничуть не реже, чем те, которые были на самом высоком счету у начальства. Последствия. Я провел на гауптвахтах как местных, так и гарнизонных где-то около 250 суток. Ко мне настолько привыкли на гарнизонной «губе», так в армии называли в моё время гауптвахту, в Даугавпилсе, что я стал полуофициальным снабженцем курева, а при случае и алкоголя не совсем счастливых обитателей этого заведения. Кстати, благодаря этому я потихоньку втянулся в курение. Свою важную роль там на «губе» я понял, когда однажды в воскресенье начальник караула приказал мне привести офицерский туалет в порядок. Каждую субботу к ночи на «губе» собиралась значительная группа арестованных пьяных офицеров. Вот после них-то надо было собрать мочу, стока которой не было, с пола огромного помещения. Я решительно отказался. Со мной в камере сидело два симпатичных породистых латыша, кажется, они служили в строительном батальоне. Увидев, что меня ожидают большие неприятности за отказ выполнить приказание начальника, они в один голос сказали: «Не волнуйся, старшина, мы уберём». Я был потрясён их самопожертвованием, учитывая их аристократический вид. В течении двух часов (пол был полностью покрыт мочой сантиметров на пять) голыми руками они всё убрали. Но вернёмся к Каунасу и моей литовской девушке. Как правило, мы встречались с ней где-нибудь в районе моего батальона. Погуляв немного, обычно мы шли к ней домой. Она жила с родителями в отдельном доме. Само собой разумеется, что к нашему приходу родителей дома не было. Так должно было и произойти и в тот знаменательный вечер. Погуляв, мы направились к ней домой, как вдруг, когда мы проходили мимо десантной части, неожиданно к нам подошёл солдат с автоматом, как я понял один из часовых. Направив на меня автомат, он сказал: «Ты пойдешь назад в свою часть, а ты, – обращаясь к моей литовской девушке, – пойдёшь туда, откуда ты пришла». Я наотрез отказался. Он взвёл затвор. Честно говоря, в меня это не вселило большую тревогу. И вдруг моя подруга стала уговаривать меня, чтобы я пошёл к себе. Это на меня тоже не подействовало, пока она не сказала: «Посмотри ему в глаза, он сейчас начнёт стрелять. Иди к себе, со мной ничего не случится». Я пошёл по направлению к своей части, всё время оборачиваясь, они стояли и разговаривали. Так я шёл, пока дорога резко не свернула, и они исчезли с поля моего видения. Через несколько дней я как всегда отправился в «самоволку», чтобы навестить мою литовскую девушку. Когда я постучался в известный мне дом, дверь слегка приоткрылась и оттуда понёсся поток невероятной брани, по-видимому, принадлежащий её матери, смысл которой я полностью не понял, но голос благоразумия подсказал мне, что надо «отваливать». А ещё через пару недель меня вызвали в военную прокуратуру, где меня допрашивал тот же самый следователь, что вёл дело по воровству в военторге. Я ему рассказал всё, как было; от него же я узнал, что часовой изнасиловал мою любимую девушку, что он белорус, женат, имеет двоих детей и скоро должен демобилизоваться. Потом следователь добавил, что судя по тому, как я защищаюсь, мне надо было бы быть адвокатом. Вскоре состоялся суд, белорусу дали четыре года. Так протекала моя служба в Каунасе, пока моё непосредственное начальство не решило применить ко мне особые меры. Дело в том, что солдатам срочной службы, если они не отслужили определённый период, не разрешается носить, я бы не сказал причёски, – более или менее длинные волосы. Хотя я был в армии больше трёх лет, почти двухгодичное пребывание в военном училище в зачёт срочной службы мне не пошёл. Как-то моему старшему лейтенанту пришла «счастливая» мысль: он приказал мне постричься наголо. Естественно, я отказался. Через несколько дней меня вызвал к себе этот самый старший лейтенант. Когда я появился у него в кабинете, то кроме него я увидел старшину, двух ефрейторов и, кажется, командира роты. Старлей сделал удивлённое лицо и спросил: «Как, ты ещё не постригся?» Я ответил: «И не думал». Вдруг на меня навалились все, кто был в комнате. Старшина вытащил машинку и простриг посредине моей головы борозду, после чего меня перестали держать. Моё нервное напряжение было такое, что я не помню, что произошло дальше. Из слухов, ходивших по части, следовало, что будто бы я схватил напильник, лежавший на столе, и ударим им старшину. Я в этом совсем не уверен, я думаю, что я употребил весь известный и неизвестный мне словарь криминального мира по адресу всех принимавших участие, я бы назвал, в этом издевательстве. Опять гарнизонная «губа» и ожидание суда. «Суд идёт». Совсем не уверен в том, что я услышал эти слова, когда все встали и в зал вошла группа людей, которые должны были представлять этот самый суд, а, может быть, в действительности и военный трибунал, не помню. Помню только, что они уселись за стол, по традиции покрытый зелёным сукном и что в середине сидела женщина, по-видимому, представляющая председателя суда или, более вероятно, председателя военного трибунала. Условно буду называть это собрание трибуналом, т.к. это более реально в связи с тем, что обычно военнослужащих судит военный трибунал. Самое важное другое. Ещё до того, как началось заседание трибунала, я с ужасом увидел, что в зал вошла моя мама, а за ней тётя Лия. Для меня это было большой неожиданностью. Сидя под арестом, я послал брату письмо, в котором подробно сообщил, что происходит и просил его приехать на суд. В то же время я потребовал, чтобы он ни в кое случае не сообщал ни маме, ни тёте о моих неприятностях. Заседание трибунала продолжалась совсем недолго. У меня создалось впечатление, что председатель трибунала, видимо, как принято говорить, нормальный человек, увидев двух изнеможённых жизнью женщин, одетых совсем не лучшим образом, прочитав состав обвинения и мою военную биографию, решила прекратить фарс немедленно. Не вызвав доктора, не знаю имела ли она на это право, она объявила, что отправляет меня на медицинскую экспертизу с целью определе6ния моей пригодности к военной службе. Таким образом я оказался в психиатрической лечебнице в Риге, куда меня привезли под охраной, в отделение, где кроме меня было ещё несколько военнослужащих и уголовников, проходивших экспертизу. Начальником отделения был земляк моих тёти и мамы, который, вызвав меня к себе в кабинет, дал недвусмысленно понять, чтобы я вёл себя определённым образом. Следуя его совету, уже на следующий день за завтраком я воткнул тарелку с кашей в лицо солдату-азербайджанцу, совсем неплохому парню, который как и я проходил экспертизу на годность службы в армии. Мы с ним разыграли настоящее побоище, так что нас пришлось утихомиривать силами гигантов-санитаров. Я не знаю наверняка, но по домыслам брата тётя имела серьёзный разговор с вышеупомянутым начальником отделения, который закончился значительным денежным вознаграждением. Думаю, что я пробыл в этом сумасшедшем доме полный месяц, в течении которого подружился с вором в законе, оказавшимся не только моим земляком, но и соседом по Матросской Тишине, где он жил до подсадки, а они у него были на долгий срок и нередко в доме номер 23, прямо напротив тюрьмы Матросская Тишина. Был он старше меня лет на 10-15, выглядел на все 100. Однажды он попросил персонал что-то ему купить, объяснив, где искать в пальто деньги. Через полчаса пришла медсестра и сказала, что она вдвоём с санитаром обыскала и прощупала очень тщательно всё пальто, но денег не нашли. Мой бывший земляк попросил принести его пальто. Когда его просьбу выполнили, он попросил всех отвернуться и в мгновение ока извлёк деньги. Я был очень впечатлён. По окончанию пребывания в Риге я своим ходом, т.е. без охраны, на поезде прибыл в Каунас в свой зенитный батальон, где через пару дней мне сказали, что я демобилизован по болезни и чтобы я отправлялся домой на следующий день. Где-то в середине того же дня меня вызвал секретарь комсомольской организации и сказал, что в связи с тем, что с меня сняты обвинения, меня восстанавливают в комсомол. Я же категорически отказался, сказав, что опаздываю на поезд. Он недоуменно посмотрел на меня, зная, что моё отбытие должно состояться на следующий день. По пути в Москву я вскрыл конверт, который должен был вручить начальнику моего районного военкомата. Отправителем письма была военно-медицинская комиссия Прибалтийского военного округа, нашедшая, что я не годен к военной службе. На одной страничке было множество статей, по которым была проверена моя годность, против каждой статьи стояло слово «годен» и только в самом конце страницы под номером «8-Б» стояло: «Не годен к военной службе в мирное время, годен к военной службе в военное время». Не могу вспомнить точную медицинскую формулировку этого пункта, кажется была написано что-то о психической неустойчивости, из-за которой призывники освобождаются от несения службы в мирное время. В дальнейшем я встретил несколько человек, которым как и мне удалось «выскочить» из армии благодаря этой статье. *** Как телевидение “пришло” ко мне или вернее как я попал на телевидение. В самом начале мая 1955 года уволенный по “болезни” (о кавычках я уже рассказал в надлежавшем месте) из армии, где я пробыл, включая два года Даугавпилского Военно-технического училища ВВС, в общей сложности три с половиной года, я наконец-то прибыл в Москву. Немедленно после армии и демобилизации мама опять-таки по «большому» блату устроила меня и я поступил на завод ламп дневного света, где, естественно, стал сборщиком этих самых ламп. Проработал я на заводе ламп дневного света несколько месяцев, пока не встретил выпускника моей же 370-ой школы нашего сокольнического красавца (в полном смысле этого слова) Игоря Данилина. Игорь был на год старше меня, на год раньше он и закончил ту же среднюю школу, что и я, после которой он поступил в тогда ещё существовавший институт Востоковедения, находившийся в нашем же районе в Ростокинском проезде. К тому времени Игорь – очень красивый темноволосый парень, слегка похожий на цыгана, но с элегантными чертами лица и с характером, которому я мог только завидовать, – окончил индийское отделение института Востоковедения и уже несколько лет работал в объединённой литературно-музыкальной редакции радиовещания на заграницу (иностранного вещания) Московского радио. Узнав, чем я занимаюсь, Игорь предложил прийти к ним в редакцию внештатником (внештатным корреспондентом). Ничего подобного я в жизни не делал и не собирался делать. Я с испугом отказался. Тогда Игорь сказал, что не только боги горшки обжигают. Почему Игорь поверил в меня? Не знаю. Думаю, что потому, что кто-то поверил в него. Надо отметить, что будучи самым плохим учеником в школе, которую я избегал всяческими путями, проводя неплохо время в парке “Сокольники” или лежа с книгой в постели, за мои сочинения, даже, когда не знал темы, почти всегда получал четвёрки. (Ещё одним предметом, к которому я был небезразличен, была география, по которой у меня в Аттестате Зрелости стояла пятёрка среди моря троек.) 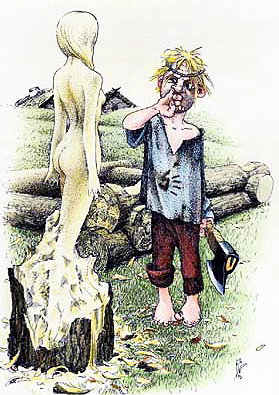 Так вот, Игорь сказал, что не “боги горшки обжигают” и предложил мне брать интервью у сильных мира сего, которые будут переводится, а затем распространяться по всем редакциям вещания на заграницу. Так я получил портативный магнитофон и стал знакомиться с советской литературно-художественной элитой, интервьюируя её представителей в основном на демагогически развитую Н. С. Хрущёвым тему международного мира. Уволившись с завода, через короткое время я с магнитофоном, выданным мне редакцией, побывал там, где я и представить себе не мог несколько месяцев назад. Я интервьюировал в их доме у метро “Аэропорт” Сергея Бондарчука с его новой женой Ириной Скобцевой; в жилом крыле гостиницы “Украина” Сергея Аполлинариевича Герасимова, которого после смерти Пырьева называли Сталиным в кино, а Сергей Эйзенштейн красносотенцем, с его красавицей женой Тамарой Макаровой; на студии имени Горького Николая Рыбникова с его располневшей к тому времени, но по-прежнему неотразимой женой Аллой Ларионовой; директора Совэкспортфильма; секретарей Центрального Комитета Комсомола, писателей, художников и чёрт знает кого ещё из советской интеллектуальной, артистической и бюрократической элиты. *** Московское радио вещало на множестве языков и диалектах. В свою очередь, радиопрограммы стран народной демократии транслировались по всему Советскому Союзу. По определённым дням недели по нашему проводному радио в эфир выходила та или иная страна. Как правило, передачи их начинались с музыкальных позывных, которые отражали характер народной музыки, или это был музыкальный отрывок из популярного классического произведения композитора той страны, которая в данный момент вышла в эфир. Однажды, включив радио, я услышал позывные румынского радио (которое оповещали по определённым дням недели), что начинается передача о делах румынских. Эта программа, естественно, была продуктом международного отдела Всесоюзного радио и просуществовала до того, как испортились отношения между СССР и Румынией Чаушеску. Мелодия этих позывных была очень приятная, как бы приглашающая к танцу, со всё убыстряющимся темпом и включала цыганские мотивы. Сейчас я не помню имя композитора, однако оно хорошо знакомо любителям классики. Услышав эту музыку, я позвал маму и сказал: «Там твою музыку передают по радио». Её ответ удивил меня. «Румынский народ такой несчастный, он живет в такой бедности – я не могу слушать эту весёленькую музыку, она не имеет ничего общего с настоящей жизнью румын и моими воспоминаниями о жизни в Бессарабии». *** Вспоминается довольно смешная история, происшедшая в одной из иностранных редакций московского радио, вещавшей на только что освободившуюся от колониального «гнёта» (и о чём, видимо, жалевшую всю свою последующую историю) страну центральной Африки. Передачи на эту маленькую страну велись на одном из множества никому неизвестных африканских диалектов студентом университета имени Лумумбы. Во-первых, кто такой Патрис Лумумба? Он был первым президентом набитой алмазами республики Конго, получившей независимость в 50-х годах от Бельгии. Был Патрис марксистом, чем и обрёк себя – его убили. Университет имени Патриса Лумумбы был, если так можно назвать, учебным заведением, куда вербовались студенты из бедных стран Латинской Америки, Африки, Азии и где из них готовили кадры для будущих разного рода революционных и террористических движений, одним словом, это была школа, находившаяся не в ведении Министерства Высшего образования СССР, а полностью подчинявшаяся Комитету Государственной Безопасности того же СССР. И так однажды другой студент того же университета, подрабатывающий в той же редакции и вещавший на другом африканском диалекте, пришёл к главному редактору и сказал буквально следующее: «Вот вы дали Обаме (думаю, что имя Обама пришло ко мне задолго до того, как Барак Обама был избран президентом США в ноябре 2008 года) новую квартиру, а вы знаете, что он делает в эфире? Всю передачу он занят тем, что передаёт приветы всем своим родственникам, у него их половина нашей страны, его племя самоё большое у нас. Отберите у него квартиру и дайте мне, я честно работаю». *** В 55-ом году уже после реабилитации мою тётю Лию положили в Остроумовскую больницу, в корпус для старых большевиков. Так как больница была рядом с нашим домом, то я посещал её почти ежедневно. Всегда вокруг её постели толпилось несколько человек, её бывших соратников по подпольному коммунистическому движению в Бессарабии, которые только что вышли из лагерей, куда они все попали, будучи осужденными по так нам всем хорошо в те годы знакомой 58-ой статье Российского Уголовного Кодекса. Она писала им рекомендации на восстановление в партии на имя сталинского изверга, всё ещё Председателя Комиссии Партийного Контроля при ЦК КПСС тов. Шкирятова, они же ей рассказывали шепотом, так что даже я не слышал, о десятилетиях проведенных в сибирских лагерях. И всё-таки я узнал кое-что. Так, например, они рассказали тёте, что Петя Якир – сын казнённого маршала, который попал в лагеря мальчишкой – по их выражению «скурвился» там, стал воровать. По-видимому, недостаточная твёрдость его характера повлияла на то, как он держался во время ареста и последующего допроса за участие в диссидентском движении, т.е. он, как говорили блатные и как теперь говорит вся Россия, «раскололся», т.е стал доносить на соучастников движения.  Но не это главное. Я хотел сказать, что если амнистию уголовникам объявили почти моментально по смерти Сталина, то, так сказать, политических заключённых выпускали далеко не сразу. Основную массу освободили в течении трёх лет: совсем немного в 1954 и намного больше в 55-ом и 56-ом годах. А были и такие, которые вышли намного позднее или совсем не вышли. *** Когда в 1956 году мой ангел-хранитель по начальной школе Витя Пожилов предложил устроить меня на телевидение, я уже не воспринял это как что-то, что простому смертному недоступно. Встреча с моим сокольническим знакомым Игорем Данилиным, а потом предложение моего приятеля по дому Вити Пожилова теперь уже без всякого блата изменили мою жизнь, до тех пор устраиваемую исключительно по блату.  Конечно, вы будете смеяться, узнав, что работу, которую планировал для меня мой сосед и друг детства, имела отношение к творчеству даже не отдалённое. Дело в том, что на московском телевидении в то время появились первые передвижные телевизионные станции (ПТС), при помощи которых транслировались спортивные матчи со стадионов, театральные постановки, оперы и оперетты из музыкальных театров, правительственные мероприятия со всех мест Москвы и множество других важных и не очень событий, включая репортажи с московских предприятий, по планам различных редакций Центрального Телевидения. Для обеспечения этого внестудийного вещания каждый день со двора на Шаболовке отправлялись ПТС в различные точки Москвы. На каждой передвижной станции была команда, которая состояла из начальника смены, техников, отвечающих за изображение, техника отвечающего за звук, и ещё одного, отвечающего за антенну, а также группы из 4-х человек, которая была обязана установить камеры, проложить кабели, которые соединяли камеры с “передвижкой”, как принято было называть ПТС, и участвовать в настройке этих камер, что не требовало никакой квалификации, т.к её было достаточно у техников обслуживающих станцию. Одним из тех, кто настраивал камеры и прокладывал кабели был Виктор, который получив моё согласие, немедленно договорился с начальником смены одной из “передвижок” о приёме меня на работу, и уже 6 августа 1956 года в день открытия Спартакиады Народов СССР я с успехом приступил к своим обязанностям на стадионе Лужники.  Так я стал “телевизионным работником” с красной книжкой Московского Телевизионного Центра и мизерной зарплатой. Мы довольствовались тем, что работаем в очень престижном месте. В связи с этим вспоминается шутка: встретились два приятеля, стали расспрашивать друга обо всём, в том числе о работе. Один сказал, что закончил институт и работает инженером с зарплатой не очень большой, но ему достаточной. Другой сказал, что работает в цирке со слонами, стоя по колени в дерьме, убирая за ними их испражнения с такой зарплатой, что и говорить не стоит. На это инженер спросил, а почему он не бросит эту работу. «Как я могу бросить искусство», – был ответ. Я упомянул о том, что на каждой ПТС был начальник смены. У меня таким человеком был Слава, так все его называли в то время, Соломоник, который, я думаю был не намного лет старше меня. Как правило, все начальники смены должны были быть выпускниками института связи. Слава был исключением, но счастливым для Московского Телевизионного центра, т.к. его технический интеллект, интуиция и самообразование с лихвой возмещали знания, которые он мог бы получить, закончив институт. Слава был высокий, стройный, поджарый человек со значительным чувством иронии к окружающим и окружающему. Под стать ему была его тогдашняя жена – потомок польской шляхты Ксана – высокая, худенькая, с прекрасными ногами, всегда на высоких каблуках, с саркастическим выражением лица, часть которого была прикрыта очками с толстыми стёклами. Я бы сказал, что оба они своим видом и поведением выражали как бы интеллектуальную свою значительность. Не знаю, что со мной происходило в те годы, но я, которого время от времени называли “жидом”, иногда как бы был слеп на различение на то, а к какой, собственно, этнической группе принадлежал тот или иной индивидуум. То же самое произошло у меня со Славой: только через много лет, вспоминая работу на передвижке и мои взаимоотношения со Славой Соломоником и его компанией, я понял, что он был евреем. Но не это отложило отпечаток на наши отношения. Я не помню, когда он ввёл меня в общество Ксаны – театроведа, выпускницы ВГИТИСа (Всесоюзного Государственного Института Театрального Искусства) и её подруг Гали Борисовой – выпускницы того же учебного заведения, и Алины – сверхинтеллектуальной девушки, специалистки в области изобразительного искусства. Я был в то время абсолютно необразованным идиотом, меня спасала от их злых языков отчасти моя необыкновенная интуиция, благодаря которой я почти безошибочно определял качество книг, постановок, актёрской игры и, я думаю, в большей степени, то, что умная и неяркая Алина увлеклась мною и часто парировала Ксанины иронические замечания и своих подруг в мой адрес. Позднее я теснее подружился Гали Борисовой и её мужем Игорем. Когда в 1989 или 1991 году я приехал в Москву через много лет после отбытия оттуда и я посетил телевизионный центр в Останкино, Галя была одной из первых, кого я встретил там. Она бросилась мне на шею и стала благодарить меня за то, что много лет тому назад я устроил её редактором в Главную редакцию литературных программ. Не помню, когда и по какому поводу, но однажды Слава сказал мне: «Я бы не пошёл с тобой в разведку». Не скажу, что человека, пережившего Вторую Мировую Войну и ребёнком жившего под впечатлением невероятных военных событий, это обрадовало. На какое-то время время наши отношения сильно охладели, но это не имело большого значения, т.к. я перешёл к тому времени на работу в цех телевизионных операторов.  Тем не менее я стал общаться, хотя и редко, с рядом Славиных друзей. Наиболее яркой фигурой был Голем или Николай Николаевич, занимавшийся, как говорили в то времена, фарцовкой, т.е покупкой у иностранных посетителей Москвы их одежды и всего чего только возможно и перепродажей купленного уже простым советским гражданам. Это был огромный полный не в меру развязный человек со значительным чувством юмора. Помню, как была ошарашена приезжая публика, окружившая большой толпой аптечный ларёк на Казанском вокзале, когда из нашей компании, проходившей мимо, отделился Голем, подошел сзади к толпе, выше которой он был на голову, и спросил: «У вас презервативчики есть?». Не помню, каким образом завязался разговор о его отношениях с женщинами. Кто-то спросил его, а что он делает, если девушка, пришедшая к нему домой, говорит, что она не будет с ним спать, потому что она девственница. «Тогда, – сказал Николай Николаевич, – я снимаю с постели грязную простыню с кровоподтёками и тряся её перед её лицом говорю: “Ты видишь, сколько здесь было целок”». Было ещё одно знаменательное лицо в компании Славы – изобретательный Шурик Шапорин – сын известного композитора. Однажды вся компания решила поехать на пароходе от Речного вокзала в Химках на ночную, если так выразиться, экскурсию. Обычно, желающие прокатиться ночью на теплоходе приезжали с дамами к полуночи, покупали билеты на поездку, при посадке каждой паре в обмен на рубль выдавали ключ от кабины и большой теплоход как бы пустел, уже никто не покидал каюты до утра. Так вот, решив совершить экскурсию, Шурик Шапорин поехал к своему дяде-генералу, накинул на плечи его генеральскую шинель, загрузил в среднюю величины амфибию всю свою компанию и все вместе поехали на Кузнецкий мост за девушками в Дом модели, а уж оттуда в Химки на теплоход. Не знаю, когда и почему, к тому времени я уже давно не работал на передвижной станции, после общения по какому-то поводу со Славой он сказал мне: «Я был неправ, я бы пошёл с тобой в разведку». К тому времени я уже давно вышел из юношеского возраста, но все-таки признание Славы пролило елей на мою душу. *** В связи с Кожно-Венерологическим “институтом” имени Короленко мне вспоминается мой бывший друг Джоз Гольдман, с которым меня связывала глубокая дружба примерно с середины 50-х до середины 60-х годов, пока он не стал моим начальником в центральном бюро технической информации Министерства торговли РСФСР, где в одном лице я выступал как продюсер, сценарист, режиссер, кинооператор и осветитель технических фильмов и где создал два далёких от шедевра технических фильма: «Выставка детской игрушки в Манеже» и «Ремонт обуви по-американски», которые я попросил озвучить моего друга бывшего диктора Всесоюзного радио Игоря Смирнова. Естественно, был подложен музыкальный фон. Надо отметить, что несмотря на их очень далёкие от совершенства качества, эти две короткометражки пользовались популярностью в отдаленных от Москвы местах, среди работников низшего звена Министерства. Надо сказать, что даже с Чукотки пришло сообщение, что им понравились оба фильма. И это неудивительно, т.к. в то время любое «произведение» прибывшее из Москвы, даже слегка напоминающее искусство, пользовалось большим успехом. С каждого из моих, если их можно назвать фильма, для удовлетворения нужд специалистов и «любителей искусства» было снято по 600 копий... . Был у меня близкий друг, который благодаря гениальной предприимчивости его жены стал не только номинальным главой процветающего и широко известного в Москве и даже за рубежом бизнеса, но и неприлично богатеньким человеком. Основным его достоинством, кроме блестящих способностей и памяти, было то, что как бы он за собой ни следил, а его жена за ним, он всегда выглядел как неубранная постель...  Мой друг ко всему относился легко, включая деньги и женщин. Хотя первые сами к нему не шли, со вторыми было легче. Правда, я не назвал бы его очень везучим. Мы встречались почти каждый день, я часто спал у него дома, а однажды напившись, мы спали в моей постели вдвоём, перед этим я тщательно его вымыл в моей ванной, о чём он впоследствии с ироническим с изумлением рассказывал всем нашим друзьям и знакомым несчётное количество раз. Несмотря на то, что Джоз закончил один, я бы сказал, из самых смешных в Москве, в смысле образования, института, интеллектуально он был намного выше обычных выпускников этого института, с которыми мне пришлось познакомиться ещё в Москве, а и потом здесь, в Нью-Йорке. В моём понимании его знания были энциклопедическими. Неожиданно он мог рассказать об американском актёре Дане Кей или о премии, которую вручают в Америке за лучшую рекламу. Не был он профаном и в точных науках, иногда проявляя непонятно откуда-то взявшуюся глубину. Естественно, он много читал. Он также интересовался как современной, так и древней историей, знал неплохо географию, следил за спортивными событиями в стране и за рубежом, и уж, конечно, политические события в мире были его главным интересом. В начале 90-х годов, будучи в Москве, я познакомил его с моей интеллектуальной приятельницей, грузинкой Тамарой. Не помню как и почему они заговорили о философах и философских течениях прошлого и настоящего. В короткий промежуток времени они коснулись довольно значительного количества интересующих их вопросов. Джоз был на высоте. Я и его друзья ценили не оставляющее его чувство юмора и иронии. Не помню, в какой период нашей дружбы он устроился работать научным сотрудником в Институт органической химии Академии наук СССР, который находился рядом с его домом на Ленинском проспекте. По его рассказу, каждое утро в его отделе начиналось с политического обозрения событий в мире. Сидя на столах, научные сотрудники, среди которых был секретарь партийной организации института, выкладывали подслушанные предыдущим вечером с различных иностранных «голосов» последние новости. Как я понимаю, главным докладчиком как всегда был Джоз. Только не надо думать, что он хотя бы слегка примыкал, если так можно сказать, физически к диссидентскому движению; идеологически – да. Однако, рассматривая уже то, что произошло после развала СССР, можно смело сказать, что он оказался умным оппортунистом. Почему Джоз должен быть глупее Жириновского?  Несколько слов о его окружении. Был он обаятельным человеком с блестяще чувством юмора и несмотря на чисто еврейскую внешность в его окружении было множество русских ребят – все люди способные, с развитым чувством юмора. Некоторых я вспоминаю с теплотой. Саша Величанский – большой помпезный человек, отношения с которым и его семьёй начались ещё тогда, когда оба были детьми и жили у метро «Аэропорт». Он был из хорошо устроенной семьи, которая время от времени приглашала голодного докторского сына на семейный обед. Оба родители Джоза были медиками – мама терапевт, папа венеролог. В советскую эпоху врачи зарабатывали не больше, чем школьные учителя, рядовые инженеры, т.е. чуть больше, чем уборщицы. Я намеренно сказал уборщицы, т.к. в те времена мужчин не было в этой профессии. Улицы Москвы подметались здоровыми деревенскими женщинами, они же убирали и все учреждения, и только уборщиками при домах или как их называли дворниками были почти все мужчины, т.к. дворникам в домах, где они служили, давали жилую площадь (жилплощадь). Как правило, это была одна комната где-то в подвале. За это они должны были не только убирать двор и подъезды, но и докладывать «куда надо» о всех жильцах дома. Это они делали с удовольствием, т.к. не чувствовали себя частью городского населения – оно было чуждо им, ведь почти все они ещё недавно были жителями недалёких от Москвы деревень и с большим подозрением смотрели на этих «антилегентов». В то же время они с охотой выпивали с простым рабочим классом, тоже в своём недавнем прошлом выходцами из деревень. В годы войны маленький Джоз, как и многие из нас, был всегда голоден. Он рассказывал, что время от времени его приглашали в дом Величанских, где папа, очень крупный человек с большими руками-колотушками, приходя с работы с большим портфелем, вытряхивал его содержимое – деньги на большой обеденный стол и ловко выдёргивал своими колотушками крупную валюту. Оставшееся он отодвигал на край стола и говорил обращаясь к детям – Саше и Рите: «А это вам». Сколько я помню Джоза, мне всегда доставляло удовольствие смотреть, как он ест. Я не помню, чтобы у него во время еды или выпивке было плохое настроение, если только я его не портил; часто он при этом мурлыкал какую-то мелодию. Так вот, Джоза приглашали в дом Величанских в голодные годы, потому что у Саши и Риты не было аппетита, а глядя на то, с каким удовольствием маленький Джоз поглощает еду, они не могли не присоединиться к нему.  Риту Величанскую я встретил впервые на пляже номер три в Татарово на Москве-реке, которое летом было излюбленным местом, как теперь говорят, «тусовок» московской золотой молодёжи и низкого ранга представителей дипломатического корпуса. В свои семнадцать лет Рита была совершенство. Потом я встречался с ней много раз. Первый раз она вышла замуж за Лёшу Шварца – внештатного автора телевидения. Это был интеллигентный человек, не красавец, прямо говоря. Это напомнило мне как однажды встретив своего друга, бывшего одессита (выглядевшего как моряк, только что пришедший с плавания), рыжего Игоря Шаферана – очень плодотворного и популярного советского поэта-песенника времён Брежнева – напротив гостиницы «Националь», я услышал: «Марат, я женился. Она, конэээчно, нээ красааавица». После развода с Лёшой у Риты был роман с нашим общим приятелем – работником осветительного цеха телевидения Гэрой Шором. Не помню, чем он закончился, но помню, что где-то в середине этого серьёзного романа Гэру судили за продажу фальшивых бриллиантов. Я был на суде вместе с Ритой. Там я узнал, что Гэра в компании с двумя студентами актёрского училища Московского Художественного театра продавал гостям Москвы с Кавказа стекло, выдавая его за бриллианты, причём он выступал в роли оценщика, случайно спускавшегося по лестнице, когда к нему на «квартиру» шли два продавца и покупатель, чтобы узнать действительно ли это бриллианты и их стоимость. Остальное всё ясно. Поразительна одна деталь. Как-то во время заседания судья спросил одного из потерпевших, жителя Баку, о его образовательном цензе. Ответ привёл зал в очень весёлое настроение: «Я кандидат химических наук». Тогда судья заметил: «И вы не смогли отличить стекло разбитой пепельницы с острыми углами, завернутоё в ватку, от настоящих бриллиантов?» Через много лет я встретил Риту в Бостоне. Время оставило на ней свои следы, а очень жаль. Я узнал, что она вышла замуж за Мишу Белоковского. Помню, что ещё будучи в Риме, в 1974 году, я встретил этого симпатичного белокурого парня. Через некоторое время этот парень попросил меня одолжить ему пару сотен долларов на очень короткий срок. Не долго думая, я дал ему эти деньги. Однако, Миша и не думал их отдавать, также как он не думал отдавать взятые взаймы деньги другим людям. Под серьёзным давлением он расплатился со мной перед самым моим отъездом на новую родину. В мой следующий приезд в Бостон Рита сказала мне, что её жизнь и её развод с Белоковским были одним большим скандалом. Ещё одним приятелем Джоза был приобретенный им в Плехановском институте Сёма Письман – невысокий, всегда несколько саркастичный, с известными всем нам комплексами, которыми обладают также многие из нас, и в тоже время не злой, расположенный к людям человек. Дима Ямпольский, когда-то игравший за класс «Б» футболист. Не знаю, как и где «достал» его Джоз, знаю только, что, по-видимому, он обладал значительной долей мужского очарования. Ещё до того, как я вошёл в компанию Джоза, Дима был женат в первый раз. Однажды все, т.е. Джоз с компанией, поехали на водное «Динамо», на Химкинское водохранилище, загорать. Вдруг с другого берега огромного водохранилища приплыл Дима. Он уже никогда не вернулся к своей первой жене, которую оставил на другом берегу. Второй раз он был женат на Тане – дочери генерала. Как-то он приехал на сборище в дом Джоза с огромным синяком под глазом. Естественно всех заинтересовало – откуда это. Из рассказа Димы мы узнали, что он мирно спал, как вдруг его разбудил страшный удар в глаз. Оказывается, сильно пьяный Дима пришел домой довольно поздно и завалился спать. Когда Таня легла в постель, то исследуя своего мужа, она обнаружила на его члене забытый там презерватив со спермой. Милый, чуткий, рано умерший зубной техник Миша Рабинович. С ним я участвовал в ряде половых приключений, пока он не женился на еврейском мастере спорта по теннису.  Другим значительным человеком был Саша Макаров. Не знаю, как и когда Саша Макаров – чемпион СССР среди юношей в беге на 1500 метров, очень способный математик, выдающихся математических способностей – попал в дом к Джозу, знаю только, что однажды Саша стал расспрашивать меня о моей работе. Узнав, что я еженедельно выхожу в эфир с передачей “Голубой огонёк”, он поинтересовался моей зарплатой. Когда же я назвал ему мизерную цифру, то он спросил: «А тебе её что, приносят домой?» Это было время, когда по молодости и в силу социальных обстоятельств мы выпивали и закусывали почти ежедневно. Однако Саша очень редко пил в нашей компании, так как он был алкоголик и предпочитал это делать в одиночку, что однажды привело к трагической развязке: он выбросился с пятого этажа своего дома. Саша допился до такого состояния, что выйдя на балкон своей квартиры, крикнул предупрежденным о его попытке к самоубийству группе милиционеров, державшим внизу под балконом большое брезентовое полотно: «Ловите меня, я лечу». Его не поймали. Это случилось, когда ему было где-то около 30-ти. Был в компании Джоза бывший военный пилот и лётчик, закончивший Минское Высшее Авиационное училище, Костя (фамилии не могу вспомнить). Любопытная личность; я бы назвал его “Костя-держи краба”, т.к. каждый раз встречаясь со знакомыми, он говорил: «Дай краба», протягивал растопыренную пятерню и всегда говорил: «Держи краба». Помню, как встречаясь. Но не это его было главной особенностью. Дело в том, что к тому времени, когда я с ним познакомился, он только что уволился из военной авиации. Костя постоянно предлагал мне «соскочить», сбежать через Кольский полуостров, где он служил в своё время в авиационном полку, в Норвегию, с которой в отличие от Финляндии у Советского Союза не было договора о выдаче перебежчиков. Он меня убеждал: «Я служил в районе Мурманска. На Кольском полуострове, где проходит граница между СССР и Финляндией. В то время было соглашение между Советским Союзом и Финляндией о выдаче советских беглецов, таким образом бессмысленно было бежать в Финляндию, надо бежать через Финляндию. Я знаю, что на севере полуострова расстояние от границы СССР до границы с Норвегией всего два километра, я также знаю расписание автобуса, остановка которого у самой границы с норвежской стороны и который за несколько минут доставит нас из Финляндии в Норвегию, у которой с СССР нет соглашения о выдаче», а там уж, он говорил, рукой подать до Осло. Я был уверен, что Костя не стукач, но я также был уверен, что если всё, что рассказывает Костя, правда, процент удачи данного мероприятия всё равно не превышает десяти. Еще Костя настаивал на том, что у него есть приятель, который не только любит пить пиво, но и ест пивные кружки – вот только ручки он не ест: брезгует.  Поскольку я уделил Джозу и его окружению немало строк, то было бы неправильно что-то утаивать. Вот например, мы решили снять «хату» для своих сексуальных развлечений. Поехали куда-то за город. Не помню, по какой дороге ехали и на какой станции мы вышли. Постучали в первый же понравившейся нам, недалеко от электрички дом. Дверь открыла пожилая, интеллигентного вида женщина. Узнав причину нашего визита, она привела нас в большую чистенькую комнату без всякой мебели. Джоз удивлённо спросил как бы себя и в тоже время меня: «А где же мы будем хариться?» Женщина стала быстро ходить по комнате и говорить, обращаясь к нам и показывая рукой во все углы: «Здесь, здесь, здесь». Абсолютно не догадываюсь, что она имела ввиду. В другой раз мы поехали с Джозом в Измайловский парк к девушкам. Невдалеке от станции метро «Измайловский парк» мы нашли нужный нам адрес: это был барак для строительных рабочих и их семей. В одной из комнат нас уже ждали. С собой мы взяли 3 или 4 бутылки водки. До того, как две дамы и я с Джозом нажрались как свиньи, из беседы с хозяйкой этой комнаты, имевшей грудного ребёнка, мы узнали невероятную судьбу её семьи. Отец был турецким дипломатом. Как, почему и когда он исчез в одном из сталинских лагерей неизвестно. Родилась она на Кольском полуострове, откуда ей удалось перебраться в Москву. Матери своей она не помнит, также как я не помню многих деталей её рассказа ввиду того, что мы все опьянели довольно быстро, ибо Джоз забыл основной одесский лозунг: «Абхам, не гони жегебэц», и всё время поднимал полный стакан водки, провозглашая тосты. Помню, что девушке было 17 лет и она (по оценке Джоза, которому она засунула в карман несколько листов со своими стихами и которые он обнаружил на следующий день) неплохая поэтесса. 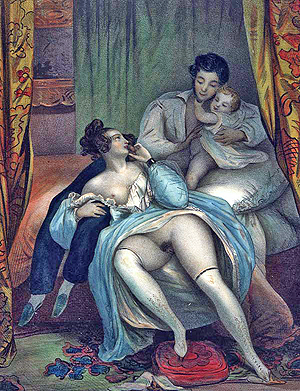 И ещё я помню, что во время того, как он лежал на ней, он одной ногой качал люльку с плачущим ребёнком. Как он это делал? Для меня это секрет до сих пор. Не знаю, чем он больше наслаждался в тот момент: сексом или успокоением плачущего ребёнка. Вот и вся история, если бы не маленькое дополнение. Девушка, которая предназначалась мне, работала в том же месте, что и Сёма Письман, встретив его на следующий день после описываемых событий, она сказала: «Кажется, я забыла дать Марату».  Много было историй с девушками. Можно понять, что собираясь в гостеприимном доме Джоза, мы редко беседовали «под чай или кофе», почти всегда нашим сопутствующим напитком была простая советская водка. Однако, изредка мы переходили на чай. Помню девушку, которая обслуживала нас однажды, она, разливая заварку, придерживала крышку чайничка с заваркой, что было для нас внове: как правило почти у всех девушек, разливающих чай до этого, крышка чайничка падала хотя бы один раз в чашку. Чтобы отметить её необычное понимание того, как надо обслуживать мужчин, я предложил ей выйти замуж за меня. Между тем соучастницы наших сборищ иногда становились причиной наших насмешек друг над другом. Как-то в нашей компании появилась абсолютно молчаливая дама. Она бы промолчала бы весь вечер, но вдруг кто-то из ребят задал ей не совсем обычный вопрос. Она начала говорить, и вдруг, благодаря моей идиотской непосредственности, из меня вырвалось: «Я вас поймал, вы заикаетесь». В течении многих лет Джоз часто напоминал мне: «Я вас поймал, вы заикаетесь».  В другой раз мы приехали с девушками к Джозу. Он по праву хозяина устроился на диване в своей комнате, мне же с любимой досталась кровать, откидывающаяся от стены, в коридоре напротив комнаты Джоза. После приятной усталости я и моя дама глубоко заснули. Вдруг раздался душераздирающий крик. Очнувшись от сладкого сна, я увидел папу Джоза, в одной ночной рубашке, едва доходившей ему до пупка, стоявшего рядом с нашей кроватью. Надо отметить, что Адольф Игнатьевич, кроме невероятного любопытства, обладал плохим зрением. К тому же он воспринимал каждую «победу» Джоза и его друзей как свою собственную. Поэтому проснувшись, чтобы пойти в туалет и наткнувшись на нас, он решил узнать, кого же мы «победили» на сей раз. Моя напарница была в глубоком сне, однако шестое чувство заставило её открыть глаза. Не буду писывать, что с ней случилось, я никогда её не спросил об этом, знаю только, что открыв глаза, она увидела на расстоянии нескольких сантиметров от своего лица лицо совсем старого человека, которое почти касалось её носа. У неё случилась настоящая истерика. Даже когда я её сажал в такси, она ни как не могла удержать порывы глубокого отчаяния и продолжала время от времени всхлипывать. И ещё кое-что по поводу событий в доме Джоза. Как-то мы собрались в очередной раз в комнате Джоза, анализируя события внутри страны и за её рубежами, естественно, это происходило не без пары бутылок водки. Между тем за стеной, в комнате папы Джоза собралась компания в составе родителей, Яна – старшего брата Джоза – и его друзей. Мы мирно беседовали, иногда прерывая очередного выступающего громким хохотом, реагируя на смешную шутку, анекдот или саркастическое замечание. Как вдруг из соседней комнаты раздалось дружное хоровое пение, пели любимую в застолье того времёни песню «Хотят ли русские войны?». Ян потом рассказал, что в той компании, которая распила пару бутылок красного вина, была внучка Никиты Сергеевича Хрущёва, которая и была зачинателем хорового пения. Если мне не изменяет память, она вышла замуж за еврея. И всё-таки, как всегда пора возвращаться к «барашкам», от которых я убегаю каждый раз неведомо куда. Несколькими страницами ранее я связал Кожно-Венерологический институт имени Короленко на одной из сокольнических улиц с именем Джоза. Ларчик просто открывался, теперь о его везучести: Джоз не скрывал того, что болел триппером бессчётное количество раз. Ко времени нашего развода он стал трипперистом-рецидивистом, 16 раз он “поймал” болезнь удовольствия. Я бы сказал, что его сексуальная жизнь не отличалась от всех его друзей. Ни он, ни мы не ездили к 3-м вокзалам, ни он, ни мы не спали с явными проститутками. А что касается скрытых, то кто их разберёт. И всё же, он был постоянным клиентом своего папы, врача-венеролога, клиника которого (Кожно-венерологический диспансер № 1) удобно расположилась напротив здания Президиума Академии Наук СССР на Калужской заставе, всего в одной троллейбусной остановке от его дома на Ленинском проспекте. У дверей этого заведения стоял швейцар в белых перчатках и ливрее, который, завидев моего друга, с поспешностью бросался открывать дверь, так как был осведомлён о брезгливости моего друга.  В связи с этим вспоминается история, участниками которой был Саша Макаров и мой друг Джоз, которого я условно мог бы даже назвать Васей. Последний, 16-ый известный мне случай произошёл следующим образом: Вася-Джоз и Саша Макаров решили выпить и закусить. С этой целью они зашли и сидели в кафе «Арарат» на Неглинной. Недалеко сидела миловидная молодая женщина с в обществе импозантного джентльмена в годах. Мои два друга своей внешностью обращали везде на себя внимание. Если Вася со своей незаурядной еврейской внешностью и в общем-то неплохой мускулистой фигурой обладал значительной долей сексуального магнетизма, то Саша с тонкими умными чертами лица, высоким ростом и неатлетической фигурой был в какой-то степени его антиподом. Не думаю, что женщинам он был безразличен, даже наоборот. Одним словом, в конце вечера мои друзья, два весенних кота – Вася-Джоз, Саша – покинули кафе с добычей: очаровательная миловидная незнакомка отправилась вместе с ними на квартиру Васе. Там встал вопрос, с кем она проведёт ночь, кто с ней будет спать. Дурацкий вопрос – другие поинтересовались бы, кто будет первый. Вася и Саша были не из этой категории людей. Как настоящие совремённые интеллигентные люди они решили спор просто, решили спросить даму и спросили объект их вожделения об этом. Её выбор пал на Васю. Через несколько дней он пожаловался мне на то, что у него течёт, и сообщил, что ему пора посетить заведение папы. Ну и что из этого? Кто не был в такой ситуации. Однако Васю-Джоза больше всего возмутило то, что эта миловидная женщина (которая оставила ему свой рабочий телефон и по которому он позвонил ей на следующий день, чтобы договориться о встрече) – что субъектом его “любви” – была старшим научным сотрудником Всесоюзного института Мировой экономики Академии Наук СССР. Мой друг не должен был искать врача-венеролога, им был его отец. Я помню, мы вместе подъехали в клинику на Калужской заставе напротив здания Академии Наук СССР, где практиковал его папа. Когда мы подошли к двери заведения, из него вышел человек в форме и белых перчатках, поздоровался с Васей и сказав: «Добро пожаловать, Иосиф Адольфович», широко раскрыл дверь – его встречали как частого и приятного посетителя. Вспоминая сейчас этот эпизод, мне напрашивается ассоциация со сценами, которые я неоднократно наблюдал, проходя мимо одного из элитных дорогих нью-йоркских ресторанов: к дверям ресторана подъезжает блестящий лимузин, дверцу его открывает черный лакей в безупречно сшитой ливрее и белых перчатках и провожает до дверей ресторана с достоинством вышедшую из машины пару. Обычно в то время, если с кем-нибудь из нас случалось нечто подобное, т.е. заболевали или, как говорили, «хватали на конец» гонорею или нечто подобное, мы это тщательно скрывали от родных. Прямо скажу, для большинства из нас это было не неудобство, а несчастье. Но не так было в семье Джоза, папа сам лечил «ребенка», которому «не повезло», ещё бы «ребёнок» был трипперист-рецидивист, надо было предохранить его от последствий не столь приятной болезни: он по его собственному подсчёту «хватал» этот самый триппер 16 раз. После почти десятилетней дружбы мы с Джозом расстались. Это произошло где-то в середине 60-х, и на целых 7 лет, т.е. до самого моего отъезда в Израиль, мы потеряли друг друга. Не знаю, как чувствовал он себя, мне же его не хватало. Я не общался с Джозом довольно длительный период. |