 |
 |
 Дружеские отношения между мной и Джозом возобновились накануне моей эмиграции, когда эмигрировал его брат – мы встретились в злополучном ОВИРЕ. Перед самым отбытием из Москвы я встретился с ним в ОВИРе, где его семья и я выполняли последние бюрократические обязанности, связанные с отбытием в другой мир. Сам Джоз никуда не собирался ехать (может только на черноморское побережье), не видя перспектив создания там сравнительно беззаботной жизни, которую к этому времени он имел в Москве благодаря предприимчивости тогда ещё его будущей жены. Кстати о черноморском побережье. Однажды к концу отпуска, который он проводил в Крыму, Джоз остался без денег. Не долго думая, он послал телеграмму папе: «Нет денег на обратный билет. Помоги!» Папа ответил ему: «Ходи по шпалам».  Итак, встретившись в ОВИРе, мы оба повели себя как будто мы не виделись неделю-две. Результатом нашей встречи стала 16-летняя переписка, которую, по его словам, он очень ценил. В течении последующих 16-17 лет мы регулярно переписывались. В основном он расспрашивал, а я анализировал. Он положительно отреагировал на моё выступление по “Голосу”, в котором на вопрос работника радио князя Оболенского, как я отношусь к тому, что мне приходилось не только водить такси, доставлять по полторы тонны фильтрованной воды в день, но и убирать туалеты, я сказал, что с детства мне внушали, что любой труд есть дело чести, доблести и геройства. Не однажды он писал мне, что из его обширной переписки с теми, кто попал “за бугор”, мои письма более, чем интересны, т.к. в них он находит аналитический трезвый подход к проблеме эмиграции и пребывания всё-таки в чужом для нас мире. В 1988 года, когда только всё начинало разваливаться, он сказал о моём брате Августине: «В то время, когда все только берут, он не уставая даёт и даёт». Когда я рассказал об этой фразе нашему общему знакомому, тот заметил, что автор этой фразы неоднократно “брал” то, что давал моей брат. С 1989 года я более или менее регулярно стал посещать теперь уже не Советский Союз, а Россию, где постоянно общался с Джозом, если он был в то время в Москве. К тому времени у него было более чем достаточно денег и здоровья, чтобы по нескольку раз в год навещать своих переехавших на постоянное место жительство за рубеж друзей, а также различные Ривьеры. Однако вскоре снова между нами пробежала “чёрная кошка”, когда где-то в начале 90-х годов я без всякой задней мысли справился у него как поживает Сонечка – его незаконнорождённая дочь. Будучи в Москве в 1992 году, я где-то услышал, что у Джоза есть незаконнорождённая дочка, которую в честь своей мамы он назвал Соней. Бывая часто у него дома, я видел и слышал, как он ведет себя со своей бездетной женой. Он часто говорил, что пора найти что-нибудь новенькое и обзавестись наследником, или вдруг объявлял, что вот он сидит дома, а ведь в это время он мог бы трахать юную голубоглазую блондинку. Конечно, было понятно, что всё это шутки, бравада, однако создавалось впечатление, что в его доме можно не сдерживать язык. Именно это явилось причиной того, что я справился у него о том, когда не было никого рядом, как поживает его Сонечка. Это был секрет полушинели, т.к. вся Москва, в том числе и его жена Дола, к тому времени знала о существовании этой, названной в честь его мамы, девочки Сонечки.  Джоз на мой вопрос не отреагировал, зато на следующий день скандал был девятибалльный, меня даже пригрозили убить, т.к. я будто бы разрушаю дружеские отношения между Джозом и ещё одним человеком Сёмой, от которого могла исходить информация. Прошло больше 10 лет с того дня, а я до сих пор не понимаю важность этого секрета. Мой друг снова прервал отношения со мной, хотя время от времени по дороге из Бостона, куда он прилетал лечиться из Москвы, в нью-йоркский аэропорт, останавливаясь в одном из манхатэнских отелей, он звонил мне, говоря, что очень спешит, т.к должен лететь в Москву, но всё-таки ему хотелось бы узнать, как я поживаю. Вот и всё. Каждый раз по прибытии в Бостон (а это было неоднократно, говорили, что он серьезно болен) Джоз останавливался в доме Натана Шлезингера – этакого еврейского Ноздрёва, теперь уже владельца бизнеса, глубоко презираемого всеми, кто когда-либо с ним пообщался, с которым 50 лет тому назад я таскал кабель на передвижке Московского телевизионного центра. Я бы не сказал, что мне хотелось бы возобновить отношения с Джозом, тем более, что мой друг благодаря своей подруге, впоследствии ставшей женой Долорес (Доле) Кондрашиной, оставившей эту фамилию после первого брака, стал в один ряд с самыми богатенькими людьми Москвы и однажды втроём с женой и мэром Лужковым участвовал в телевизионной передаче.  Я не думаю, что тем, кто знает внешне не очень привлекательную Долорес и сексапильного Джоза приходило на ум: «И что он в ней нашел?» Первый раз я приехал в Москву в 1989 году, когда у них ещё не было статуса мужа и жены, и уже тогда было ясно “что он в ней нашёл”: два прекрасных особняка на старом Арбате. Ну, а потом...  Раньше, бывая в Штатах, Джоз, как правило, в последний день перед отъездом в Москву, звонил мне и говорил: «Старик, так случилось, вот не смог встретиться с тобой, в следующий приезд обязательно пообщаемся». Так повторялось каждый раз, когда он был, как я понимаю, проездом в Нью-Йорке, однако вот уже пару лет он не звонит, хотя по рассказам ему приходится чаще бывать здесь, т.к. у него какие-то неприятности с простатой. Я не расстраиваюсь, т.к. давно пришёл к заключению, что в первой половине жизни мы приобретаем друзей, а во второй мы их теряем. В 2002 году я побывал в Москве в связи с рождением моей внучки. Перед отъездом я сделал звонок “вежливости” его жене. Состоялся дружеский разговор, она даже пообещала полететь вместе со мной в Америку, где в это время Джоз проходил курс лечения, – однако далее разговоров дело не пошло. *** Одним из признаков старости, я думаю, это то, как часто мы забываем застегнуть ширинку. Я не занимался этим вопросом вплотную, мой опыт связан большей частью с моей собственной, если можно так сказать, забывчивостью или склерозом.  Однако не у всех эта забывчивость проявляется в старческом возрасте. В моей тамошней жизни мой тогдашний друг Джоз, с которым вы уже познакомились, годы назад будучи в самом расцвете своей выдающейся мужской сексуальности, постоянно забывал застегивать ширинку, разъезжая по городу с распахнутыми внутренностями. Когда же я ему говорил, что неприлично ездить в столичном метро вот так, демонстрируя то, чего в общем-то не было видно из-за нижнего белья, его ответ был лаконичен: «Они уже привыкли».  *** Времени на работу на радио не было, поэтому её пришлось оставить, тем более мне там ничего не светило, т.к. у меня не было высшего образования и знания иностранных языков. Начался последний 16-летний период моей жизни в СССР, который тем или иным образом был связан с телевидением. Надо сказать, что там же на ТВ я приобрёл друзей, с которыми не расставался до отъезда. Я не знаю, что стало с ними всеми, однако вспоминаю их очень часто и с теплотой; это Игорь Игнатов, Стасик Жихарев, Гена Егоров, Витя Голювинов. Все они очень разные, но всех их объединяло одно: порядочность и самоотверженность в дружбе. Мы часто проводили время вместе. Одним из таких совместных времяпровождений было празднование моего 25-летия, которое началось в ресторане “Прага” в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, а закончилось через несколько дней на берегах Истринского водохранилища. Кстати о Горьком. Когда умер Алексей Максимович, его именем было названо масса всего: переименовали город Нижний Новгород в город Горький, центральную улицу Москвы Тверскую в улицу Горького, назвали его именем пароход Волжской флотилии, только что построенный гигантский самолёт, которому с трудом удалось оторваться, я думаю от воды, но не более того; Центральный парк культуры и отдыха Москвы; множество яслей, детских садов и школ по всей необъятной стране.  По этому поводу бывший немецкий коммунист-еврей, а в то время один из ведущих деятелей Коммунистической партии Советского Союза Карл Радек сказал: “А не лучше было бы всю эпоху назвать горькой”. Правда, за это, да и не только за это, а в общем-то мы и не знаем за что, в 37-ом он поплатился своей жизнью. ***  В первый день торжеств по случаю моего 25-летия после попойки в “Праге” – чешском пивном ресторане в Центральном парке – к вечеру мы добрались до Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР (ВДНХ). К этому времени нам не нужны были ни рестораны, ни кафе – одним словом нам не нужна была закуска – пили прямо из горла. В результате вскоре мы напились, я бы сказал, до обезьяньего состояния, т.к. повисли на яблонях сада ВДНХ, пытаясь воспользоваться плодами великолепного урожая того года. Выставка к тому времени уже давно закрылась, было где-то около полуночи. Вскоре мы оказались в местном отделении милиции, где нас, надо прямо сказать, довольно любезно принял майор, начальник местного отделения милиции ВДНХ, задержавшийся на работе в тот вечер по каким-то своим причинам. Попав в милицию мы продолжали веселится, пытаясь убедить майора, что не мы пьяны, а он. Не помню, каким образом мне удалось забрать все наши документы из его стола и выйти на улицу. Не подумайте, я не убежал, не тут то было. Была прекрасная августовская ночь, все окна в милиции были настежь открыты. К одному из них я подошёл, облокотился на подоконник и начал беседу с начальником. Кроме него и нас в это время в милиции никого не было. Наша беседа протекала довольно мирно: мы пытались убедить его, что нельзя пить в рабочее время, мы были уверены, что пьян он, а не мы, он же говорил очень вежливо: “Марат Петрович, вернитесь в помещение и отдайте документы”. Это продолжалось в течении, я думаю, около получаса. В конце концов я подался на уговоры вежливого майора после того, как он дал нам честное слово, сказав, что он нас отпустит без каких-либо последствий, и присоединился к своим товарищам. Надо отдать должное майору, он нас очень скоро отпустил, однако, обещание выполнил не до конца, т.к. вскоре на телевидение пришло письмо, в котором он писал, что я старше всех моих товарищей и вместо того, чтобы быть хорошим примером, оказываю плохое влияние на них. Естественно, письмо меня обидело, т.к. Гена был старше меня на год, хотя Игорь моложе на 3,5 года, Стасик на 5 лет, а Витя, я думаю, на целых семь, кроме того, каждый из нас был персоной с независимым мышлением, и поэтому я не мог оказывать существенное влияние ни на кого из них. Начальство же вообще не обратило внимания на нравоучения майора милиции, и таким образом инцидент был исчерпан. Мои отношения с ВДНХ на этом не закончились: через несколько лет за две передачи с территории Выставки, будучи редактором “Голубого огонька”, я был награждён двумя медалями ВДНХ СССР. Однако, празднование по случаю моего 25-летия на этом не закончилось. Через пару дней поздно ночью, почти в том же составе, как мы его начали, мы выгрузились с электрички в районе Истринского водохранилища, нагружённые продуктами и спиртным по самые уши. Уже на подходе к водохранилищу, в лесу мы встретили у костров компании, которые спрашивали: “Нет ли среди вас Марата, который в связи с его 25-летием должен привезти водку?” Когда же мы подошли к берегу, то увидели массу костров на нашем и том берегу, а также приближающиеся к нашему берегу лодки, и отовсюду доносился вопль: “Где же этот ёбанный Марат с его водкой?” *** Сегодня я вспомнил, что однажды с лёгкой подачи Джоза и Игоря Игнатова я поехал в отпуск в Макопсе, недалеко от Сочи – место летнего отдыха московского бомонда. Как всегда, пляжное время было очень насыщенно, так как с момента появления на пляже до наступления темноты приходилось играть в преферанс.  И вот, в один из подобных напряженных дней как раз после обеда весь пляж как бы на мгновение застыл, а потом все встали и стали делать поклоны и одновременно восклицать «кормилец» в адрес небольшого пузатого лысого человека с благожелательным выражением лица, судя по всему, только что приехавшему, так как он был абсолютно беленьким. Вскоре я узнал, что новоприбывшего зовут Юрий Фидельман, он литаврист оркестра Большого Театра, по совместительству вот уже много лет является председателем профсоюза Театра. Его появления в Мокапсе с нетерпением ждали все: не только местные “акулы”, уже постигшие премудрости “большого мира”, но и те, кто регулярно считал своим долгом провести летний отпуск в этом исключительном по подбору, я имею ввиду приезжающих, местечке. Дело в том, что Юра очень любил играть в преферанс, не очень понимая, что происходит за карточным столом, проигрывая значительные суммы, не слишком печалясь, чем и объясняется эмоциональность оказанной ему встречи. Как я выяснил в дальнейшем, он очень много работал. Даже на отдыхе в Мокапсе он каждый вечер уезжал в Сочи на музыкальные “халтуры”. *** Алик Качеровский – мой друг, живущий в Сиэтле, постоянно напоминает мне, что я был на его проводах в армию в ноябре 1957 года. Он попал туда с третьего курса института, хотя если бы он лёг больницу на операцию гланд, то бы его не взяли, т.к. уже с четвёртого курса не брали. Однако его отец сказал, что евреи не могут уклоняться от армейской службы. Попал он в строительный батальон, который послали на лесоповал в глубинку Кировской области. На каждого солдата в смену приходилось по шесть кубометров, которые они должны «добывать» ручной пилой, при этом ствол надо было очистить от ветвей, сучьев и листьев, а отбросы сжечь. Не выполнившие норму иногда работали до полуночи. Кормили до ужасного плохо. Единственно, что его спасало, – на кухне работали москвичи и они его подкармливали. Летом же он играл за часть в футбол, поэтому на лесоповале был реже. Рядом с расположением их воинской части находились исправительно-трудовые лагеря. Заключённые там работали ровно 8 часов, кормили их значительно лучше, чем солдат в соседней части, т.е. там, где нёс службу Алик, а при невыполнении нормы их поёк не урезали. Единственно, чем им было хуже, – их охраняли. Бежать из лагерей было практически невозможно. Зимой сугробы были выше человеческого роста, а летом непроходимые болота. И если всё же кто-то бежал и добирался до ближайшего селения, то там их ждали местные люди, которые с удовольствием сдавали их лагерным властям, т.к., видимо, их за это вознаграждали. Не лучше было для сбежавших, если они добирались до воинской части, которых было множество в тех местах. Как сказал Алик, каждое утро начиналось с политзанятия, на котором солдат информировали, если в это время кто-то был в бегах, что сбежавший, как всегда говорили, убийца, и довольно очень часто добавляли, что он убил женщину с двумя маленькими детьми, так что и здесь им нельзя было ожидать пощады. Была не очень далеко одноколейная железная дорога, идущая в Киров, находившемся в 120 километрах, по которой ходил старый паровоз с двумя вагонами, но и это был не вариант, т.к. эти два вагона были набитые солдатами-охранниками. Случались фальшивые побеги. Чаще всего это происходило, когда заключённый не приходился ко двору уголовной верхушке лагеря и его могли убить. В этом случае, так называемый беглец прятался внутри лагеря, а потом объявлялся, за что его сначала сажали в карцер, а потом переводили в другой лагерь. Алик изумлялся: как это Сталин столько раз бежал из сибирских ссылок за границу, сумев ещё сделать с несовершеннолетними деревенскими сибирячками пару детей. Однако положение круто изменилось, когда он стал во главе этого бизнеса, никто уже ни куда не бежал. Просмотрите повнимательнее литературу о лагерях, конечно, вы найдёте там рассказы о побегах, но о неудачных, т.к. удачных просто не было. И еще Алик рассказал, как он и его сослуживцы проводили время в увольнении. Ближайшее поселение-станция находилось в 20 километрах. Добирались туда на грузовиках, перевозивших лес. Если же не было попутной машины, проходили эти 20 километров пешком. Что же их влекло туда? Дело в том, что там, кроме автобатальона, который обслуживал близлежащие участки лесоповала, были бараки, в которых жили, как сказал Алик, «очень хорошие девки». Жили они по двое в каждой комнате, иногда с маленькими детьми. Как они оказались там? Дело том, что в преддверии предстоящего летом 1957 года Всемирного Фестиваля Молодёжи и Студентов в Москве власти решили почистить город и выслали из него проституток. Я спросил Алика, платили ли они им. Тот сказал, что нет, не платили, но иметь дело с ними было опасно, т.к. вероятность заболеть была очень большая. *** Работая ассистентом телеоператора на Центральном Телевидении в течении менее чем двух лет, мне пришлось участвовать во внестудийных передачах, в которых главными действующими лицами были первые люди государства. Очень хорошо помню торжественное заседание во Дворце Спорта в Лужниках по случаю возвращения из Индии с визитом дружбы К. Ворошилова. Заседание намеченное на определённое время задержалось на 40 минут. Когда члены Политбюро во главе с Хрущёвым появились на подиуме, у всех были необыкновенно красные лица. Создалось впечатление, что эти совсем не молодые люди хорошо “поддали” за кулисами. Я ассистировал главному оператору выездных программ Аронову. Сидел он с камерой на 4-ом, а я тут же за ним в 5-ом ряду. Каждый раз, когда я был в подобной ситуации, у меня появлялось желание: а вот бы стрельнуть. Я даже сейчас, по происшествию полувека не могу объяснить сам себе – почему. Точно могу сказать, что у меня не было политических мотивов, если только подсознательно. Но вернёмся к Лужникам. Было очевидно, что каждый второй, по крайней мере, из присутствовавших, принадлежал к КГБ. У меня был небольшой насморк, и я решил поиграть: неожиданно резко лез в карман, все вокруг меня застывали, а я вынимал белый платок и вытирал нос. Думаю, что я это проделал 2-3 раза.  Однажды, опять-таки с Ароновым, мы работали в аэропорту Внуково на встрече между Хрущёвым и прибывающим с дружеским визитом руководителем одной из братских коммунистических партий. До прибытия иностранного гостя Хрущёв решил пообщаться с “представителями трудящихся”, которые стояли большой толпой за не очень строго выровненным верёвочным барьером. Аронов и я стояли с камерой, которая была на подвижном штативе впереди барьера и, естественно, толпы. Хрущев шел чуть впереди группы – членов советской делегации. На полшага сзади от него, справа шёл среднего возраста человек, видимо, начальник протокола Министерства Иностранных Дел СССР, который в связи с тем, что барьер, за которым стояли люди, как я уже сказал, был не выровнен, а как бы зигзагообразный, говорил довольно громко на ухо Никите Сергеевичу, так что мы услышали, когда группа приблизилась к нам, «направо», «налево», «прямо». Мы помним, Хрущёв не был слепой, и, очевидно, он сам видел куда идти, но протокол нельзя менять. Другое дело, история со мной. В связи с дождливой погодой я держал в руках на всякий случай кожух от камеры. Увидев приближающегося вождя и меня, державшего в руках что-то неясное, я получил указание, не подумайте, что мне сказали это простыми человеческими словами, – всё было донесено до меня жестами от одного из кагэбешников – избавиться от кожуха. Я не придумал ничего лучшего, как бросить кожух рядом со мной на асфальт, прижав его кабелем, соединяющим камеру с передвижной станцией. Между тем Хрущёв приблизился, помахивая рукой “представителям”, вся охрана застыла, видя, что он неизбежно наступит на кожух, что тот и сделал, наступив на самый край. О чудо! Взрыва не произошло.  И ещё одна история из общения с “сильными мира сего“. Не помню, в каком году, 58-ом или 59-ом, ещё будучи ассистентом телеоператора я работал на параде на Красной Площади 7-го ноября. Перед самым началом события ко мне подошел человек небольшого роста, который, как я знал, был полковником КГБ, отвечающим за работников радио и телевидения, и сказал: «Что же вы, Марат Петрович, получили “тройку” по сопромату?» В то время я учился на заочном отделении Московского Политехнического Института, и зачёт, по которому я получил “тройку”, я сдавал всего за пару дней до 7-го ноября. Как я понимал, полковник разговаривал с кем-то из моих товарищей по работе, с которым я поделился моими студенческими делами, и ему надо было продемонстрировать мне, что мы все под пристальным оком всесильной организации. *** Во времена Николая Васильевича Гоголя один из литераторов, прочитав чей-то опус, сказал, что он чувствует себя так, как будто он начитался писем Гоголя к тамбовской губернаторше. Вы, наверное, помните это из школьного материала по литературе. Тогдашняя интеллигенция считала Гоголя реакционером. Но не в этом дело. Сегодня (осень, 2009) меня в моей квартире посетила моя старая знакомая, счастливо живущая сейчас в Бостоне. Она из Перловки, из религиозной еврейской семьи, ей что-то около семидесяти, выглядит она как большинство эмигрантских женщин её возраста, естественно, блондинка и квадратная, одним словом – без нюансов – тем более она никогда не блистала, что мы называем, красотой. Несмотря на всё это, а может быть и поэтому, лет 50 тому назад (в конце 1950-х) я лишил эту перезревшую девственницу, как тогда говорили, “самого дорогого”. «Но не в этом дело, барон». 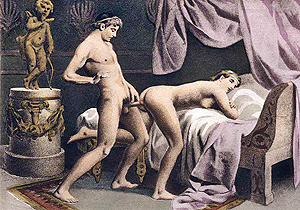 Дело в том, что со мной произошло тоже самое, что случилось с вышеупомянутым литератором, читавшим письма Гоголя к тамбовской губернаторше: всё наше общение происходило не только на разных – я бы не хотел употребить выражение «интеллектуальных уровнях» – на разных языках. Не думаю мерить давление, испугаюсь, оно наверняка где-то около 200. *** В 1960 году я поступил на дневное отделение Историко-архивного института, который расположился на улице 25-го Октября, прямо напротив ГУМа, решил твёрдо окончить его. Дело в том, что я поступал с попеременным успехом в несколько других институтов, среди которых были: Военный институт иностранных языков, Геолого-разведывательный, который находится на Манежной площади между зданием гуманитарных факультетов Московского университета и бывшим американским посольством, в Нефтяной институт имени Губкина и ряд других. После окончания средней школы меня также приглашали в Строительный институт имени Куйбышева на Разгуляе и в Техническое училище имени Баумана, т. к. я в то время играл в водное поло. Как видите, довольно широкий профиль, и всё потому, что окончив среднюю школу, а позже, вернувшись из армии, я ещё не знал, кем я хочу быть, что я хочу от жизни.  Почему же Историко-архивный? В 1960 году приближалась пора зрелости, в августе мне должно было стукнуть 28, я знал, что хочу быть редактором на телевидении, я также знал, что без диплома гуманитарного института мечта останется мечтой. Был выбор: филологическое факультет университета или сценарное отделение ВГИКа. Однако, однажды летом 60-го, проходя по улице 25-го Октября, я увидел на здании Историко-архивного института объявление, в котором говорилось, что приёмные экзамены в этом заведении начинаются не 1-го августа, как везде, а 1-го июля. Подумав, что я ничего не теряю, как говорил Лаврентий Павлович Берия: попытка не пытка, я решил попробовать. Тем более, как бы я не был подготовлен, меня запросто могли завалить в университете, т.к. там существовала квота на евреев. Что же касается института кинематографии, то там меня ожидал очень высокий конкурс. Надо сказать, что и в Историко-архивном на каждое место было более, чем достаточно абитуриентов. *** Уже на первом курсе у меня появилась своя компания. У меня было три близких друга в институте. Несмотря на разницу в возрасте, мы были очень дружны. Валерий Зарубин – сын полковника, начальника прессы, руководителя советской военной печати советских войск в Венгрии, также как очаровательный необыкновенно высокий с благородным ангельским лицом и таким же характером Миша (убейте, фамилию не помню) попали в институт сразу после десятилетки. (Извиняюсь, забыл его фамилию, что поделаешь, ведь это было так давно – 45 лет прошло с того дня, как я его видел в последний раз.) Это были умные интеллигентные ребята с очень хорошими манерами. Другое дело Коля Парумцев – тонкая умница, из пролетариата, с большим чувством такта, который, отслужив в подводном флоте на подводной лодке, обошедшей несколько раз вокруг земного шара, в том числе и под льдами Северного Ледовитого океана, четыре года, являлся для моего всеядного ума неисчерпаемым и очень интересным источником информации. Он рассказал, что около 50 процентов советских подводных лодок в то время не возвращалось из кругосветных путешествий, добавив, что до сих пор молится всевышнему за то, что тот решил оставить его в живых. Жизнь под водой, по рассказам Коли, в условиях того времени, была ежесекундным суровым испытанием физических и моральных качеств человека. Ещё одним человеком на нашем курсе, к которому я был в очень расположен, был Олег Кордобовский. Был он моего возраста, светловолосый с утончённым лицом российского интеллигента, таким, которого всё время спрашивают: “Вы что, еврей?” “Нет, у меня просто интеллигентная внешность”. Я мало, что знал о нём, но то, что я знал, говорило о том, что он человек далеко неординарный. Олег учился до поступления в наш институт в Высшем Военном Авиационном Училище в Гомеле, откуда был отчислен перед самым окончанием по неизвестной мне причине. Среди его приятелей был сын одного из самых высоких чинов КГБ, который был личным референтом Екатерины Фурцевой – фаворитки Хрущёва, Панюшкин. (Я привожу фамилии, которые нынешнему поколению ничего не говорят, зато приводят к мысли: «Зачем он вспоминает этих политических неандертальцев?») Была у этого далеко неглупого человека одна слабость: для него необходимы были знакомства с “важными” людьми, как мне казалось, он любил быть в отражении чужой значительности. Олег познакомил меня с дочерью генерал-лейтенанта, первого заместителя начальника Главного Политического Управления Советской Армии (как часто со мной бывает, фамилии не помню, зато помню, что начальником ГПУ был генерал-полковник Епишев), которая жила с папой, мамой и братом на втором этаже трёхэтажного маршальского особняка на улице Маршала Желтовского у Патриарших прудов, куда я был однажды даже приглашён. Была эта девушка не очень яркой, зато очень серьёзной и милой. Вскоре Олег сказал мне, что они решили пожениться, а ещё через какое-то время он в лицах инсценировал для меня картину прошения руки любимой у её отца. Девушка и Олег сидели в гостиной, дожидаясь, когда генерал-лейтенант придёт со службы. Внезапно отворилась дверь, вошедший генерал слегка кивнув головой, сбросил обувь в передней и в носках прошел к себе в кабинет. В это время мама, кандидат физико-математических наук, готовила на кухне обед. Генерал-лейтенант не имел ни денщика, ни повара, у него был только адъютант: не положено настоящему советскому военачальнику жить по-барски. Через некоторое время дочка решилась войти к отцу в кабинет, где она сообщила ему, что она и Олег решили пожениться. На что папа приказал ей прислать Олега к нему в кабинет, а самой остаться за дверью. Мой друг и отец его любимой остались один на один. Генерал, не глядя на Олега, просматривал какие-то бумаги, как будто никого не было в комнате. Олег ожидал, что его пригласят сесть, вместо этого генерал вдруг поднял голову и, строго глядя Олегу в глаза, гаркнул: “Еврей?” Оторопевший Олег почти жалобно простонал: “Нет”. Теперь уже прозвучал приказ: “Паспорт”. Олег и эта милая девушка, по рассказам общих знакомых, завели ребёнка, но вместе прожили недолго. Я уже упомянул автора биографии Сталина Дмитрия Волкогонова. В своё время он также был одним из заместителей начальника Главного Политического Управления Советской Армии и ушёл в отставку в звании генерал-полковника. Но это мелкие детали, которые мало интересуют кого-либо теперь. Главное другое: я не перестаю удивляться тому, кто был наверху советской иерархии – политические троглодиты, которые оглядываясь в далёкое прошлое, раскрывшееся перед ними во всём его объёме, с высоты современности абсолютно не могут дать правильный анализ. Ковыряясь в костях и пепле политических трупов прошлого, они так и не поняли полной несостоятельности теории марксизма, преподававшейся им в советских институтах и академиях. Я не хочу сказать, что человечество стало лучше или что будет лучше, я просто хочу обратить внимание на то, что деньги и религия есть и будут основными двигателями человечества. А чтобы понять лучше тех, о ком я только что упомянул, почитайте биографию Сталина в представлении Дмитрия Волкогонова.  *** Ещё одну карточную историю я вспомнил во время посещения концерта ансамбля старинных музыкальных инструментов “Артек”, исполняющих музыку периода итальянского ренессанса, состоявшегося в одной из нью-йоркских церквей. В начале 1960 года я отдыхал в маленьком местечке под Ялтой, где жизнь текла очень однообразно и монотонно: с утра на пляж, потом на обед, потом опять на пляж, потом на ужин и спать. И так день за днём. Однажды, не выдержав такой рутины, я спросил человека на пляже, который привык к этому месту и отдыхал здесь с семьёй не первый год: «А где же всё-таки поблизости жизнь идёт?» Он указал направо, в направлении Ялты: «Там», – а потом налево: «И там». «А что там?» – спросил я. «Там Артек, там, как ты знаешь, Всесоюзный пионерский лагерь, там огромный пляж и масса народу». Не долго думая, уже на следующий день я отправился на маленьком пароходике налево. Пляж в Артеке действительно был обширный и отдыхающих было много. Однако не это привлекало моё внимание: я заметил, что в самом центре пляжа у забора, отделяющего сам пляж от улицы, сидела на песке увлечённая чем-то довольно значительная группа мужчин. Естественно, я сразу понял, что это то что мне нужно – они играли в карты, и я был уверен, в преферанс. Не буду рассказывать о том, как я выступил, история не о том.  Где-то часов около семи, когда пляж полностью опустел, солнце довольно близко подошло к линии горизонта, на юге темнеет намного раньше, чем в Москве, у забора по-прежнему продолжалось сражение. И вдруг наше внимание привлёк резкий звук горна, по улице за забором шёл пионерский отряд. На мгновение наше внимание переключилось с карточного “стола” к событию за забором. Вдруг мы услышали как бы поющий голос пионервожатой, которая шла впереди, чуть сбоку от отряда: «Налево не смотреть, смотреть впереди себя». Понятно, что слева сидела группа “подонков”, забывших о обо всём на свете и проматывающих свою жизнь, играя до одурения во время отпуска на пляже в преферанс. ***  Я не помню точно, когда и как я в свои студенческие годы познакомился с Валей Гафтом. Думаю Лёня Зингер, наш общий по Сокольникам товарищ, свёл нас. Во всяком случае, с самого начала в моих отношениях с Валей появился элемент интеллектуальной близости: мы делились, гуляя в любую погоду по зелёным сокольническим улицам, мыслями и идеями, которые нам обоим были близки. Через несколько лет Валя женился на ведущей манекенщице Всесоюзного Дома Модели Елене Изоргиной и уехал от нас к своей жене, квартира которой была в Газетном переулке, рядом с Центральным телеграфом. Я однажды посетил их. Валя сетовал, что когда они ругались, она называла его жидом.  В 1991 году, во время моего пребывания в Москве, Лёня Зингер сказал мне, что он звонил Вале и сообщил ему, что я в Москве, на что тот резонно заметил: “Ну и что!?”  Поскольку в этих, если можно сказать воспоминаниях, я часто связываю то или иное событие или тех или иных людей с Матросской Тишиной, постольку появился здесь Валя Гафт, который жил на этой улице и с которым меня связывало не только общее для нас обоих место проживания. Валя сам пишущий человек, поэтому о себе он расскажет лучше, если захочет, чем кто-либо другой. Что он, как я понимаю, и делает время от времени. А вообще, по-видимому я завёл эту дребедень, чтобы хоть немного погреться в тепле чужой славы.  Объектом Валиного и моего юношеского воображения и восхищения в то время была прима-балерина ансамбля Моисеева Мира Кольцова, которая жила в Колодезном переулке и которую мы время от времени встречали в окружении балетных красавчиков. В то время такие люди как Мира ещё не ездили на «мерседесах», их можно было запросто встретить на городском транспорте и их не сопровождали обрюзгшие преуспевающие бизнесмены. Я не буду пытаться “написать” её портрет, наверное не смогу. Она была почти совершенство. Вообразите себе героиню романа Вальтера Скота “Айвенго”, еврейку, которую в одноимённом американском фильме сыграла Элизабет Тейлор. И та и другая принадлежали к одной и той же расе, только Мира была реальной блондинкой и реальным человеком, а не выдумкой автора.  ***  О морали. В году 1962 или 1963 я в группе студентов Московского Историко-Архивного Института провёл месяц в спортивном лагере Киевского Инженерно-строительного института. Мы поставили гарных парней, а украинцы грудастых краснощёких девок. Естественно завязались романы. Но были ли у них продолжения? Секретарь комсомольской организации нашего института Толя Данилевич, у которого была великолепная атлетическая фигура и приятное значительное лицо (невероятная редкость для комсомольского вожака) однажды поделился со мной о своих отношениях с первой красавицей Строительного института:  “Понимаешь, Марат, у нас есть всё, а главного нет. Я ей говорю, что так продолжаться не может, а она мне отвечает, что выйдет осенью замуж, приедет в Москву и тогда между нами будет всё”. В связи с этим мне вспомнилось жалобы немцев, оккупировавших Украину: все незамужние женщины оказались девственницами. Ну, а потом пришли девяностые годы 20-го столетия и Украина поставила миру проституток больше, чем любая другая страна. В связи с этим вспоминается сообщение, появившееся в прессе после окончания военных акций в Боснии. В нём говорилось, что у Верховной Комиссии по Делам Беженцев при Организации Объединённых Наций возникла большая проблема: что делать с гигантским количеством перемещённых лиц, оказавшихся на территории Боснии. Самой большой группой были сербы, за ними цыгане, а на третьем месте – украинские проститутки, которых оказалось 15 тысяч. И последнее. В один из вечеров нас всех пригласили на лекцию “О любви и дружбе”. Я решил принять участие, ибо других развлечений на этот вечер не предвиделось. Перед нами появился небольшого роста вялый человек, к тому же было видно, что старость к нему уже подкралась. Заунывным голосом, без взлётов и падений он в течении 40 минут коротко пересказывал содержание типичного пропагандистского материала о том, какая должна быть советская семья и какой должна быть любовь в стране победившего социализма. Закончив, он спросил есть ли у кого к нему вопросы. Встретив полное молчание, лектор с явно довольным видом и облегчением быстро стал собирать свои бумаги со стола. Подумав, что было бы полной несправедливостью по Инженерно-сттношению к присутствующим отпустить его просто так, я поднял руку и сказал, что у меня есть вопрос к докладчику. Тот прекратил собирать бумаги и повернулся в мою сторону. Я сказал, что когда тот или иной из нас учит кого-то чему-то, то подразумевается, что учитель обладает в той или иной степенью опыта в этой области. В связи с этим у меня есть вопрос, а часто ли этот самый лектор любил, много ли у него было встреч интимного характера с особями противоположного пола. Естественно, лектор не стал отвечать на мой вопрос и немедленно побежал к директору лагеря. Вокруг меня же в это время собрались киевские студентки и засыпали меня вопросами. Я же попал в свою стихию и стал распинаться о всечеловеческом понимании отношений между мужчиной и женщиной. Это продолжалось не менее часа. Расстались мы друзьями, и я думаю, что я пробил слегка стену той неправды, которая окружало сознание этих невинных существ.  Смотря с позиций сегодняшнего дня, всем ясно невинность моего вопроса и преамбулы к нему. Однако дело происходило на Советской Украине и меня предали анафеме. На совещании в тот же вечер директор лагеря и докладчик потребовали моего немедленного изгнания из лагеря, однако благодаря стараниям Толи Данилевича и других ребят из нашего института меня оставили до первого нарушения, т.е условно. *** Мой совсем уже бывший друг Валерий – зубной врач по семейной традиции – рассказал мне историю своего деда, который был так называемым, цеховиком и вместе с другими 15-ю подобными ему предпринимателями был арестован и обвинён в финансовых злоупотребления в 1963 году. Процесс был очень громкий. По личному указанию Хрущёва всем дали по 15 лет, а троих расстреляли. Почти все осуждённые были евреи-ветераны Отечественной войны, а дед Валерия был участником Мировой, Гражданской и Отечественной войн, причём на последнюю пошел добровольцем. Свои 15 лет он получил за взятку работнику ОВХСС в размере 500 рублей (другие обвинения были не доказаны). Процесс готовили работники КГБ, которые не давали спать деду Валерия два с половиной месяца, пытаясь узнать, где тот спрятал банку с драгоценностями. В конце концов он “раскололся”, после того его двоюродный брат, который был платным стукачом МВД и КГБ, принёс им список спрятанного. Валерий узнал об этом после развала СССР, найдя сберегательные книжки этого “родственника”. В книжках было множество взносов по 10 и 15 рублей. Оказалось, что за каждый донос МВД платило 10, а КГБ 15 рублей. Не густо, правда. *** В самом конце 60-х годов любимой прибауткой у нас была: советское телевидение стоит на ногах Юрия Фокина, говорит языком Николая Саконтикова и видит мир глазами Чернышёва. Первый был главным политическим обозревателем телевидения и у него с детства одна нога была засохшая, изуродована детским параличом, т.к. он переболел полиомиелитом; второй был идеологическим боссом Центрального телевидения и был заикой; а третий был заместителем Председателя Комитета по Радиовещанию и Телевидению при Совете Министров СССР и косил на один глаз. Надо отметить, что у меня был краткий роман с элегантным секретарем Саконтикова Ирой, когда ей нужна была помощь в поступлении в мой институт. Когда я заканчивал Историко-архивный институт, я выбрал тему моей дипломной работы “Трансляция телевизионных передач при помощи спутников” (История советского космовидения), а руководителем диплома Юрия Фокина, в то время занимавшего должность главного политического комментатора в программе «Время».  Тема этого диплома как и выбор руководителя, был и чисто конъектурными, что гарантировало успешную защиту. Я бы не сказал, что я открыл что-то новое, моя дипломная работа была далеко не выдающимся исследованием, – материалы в этой области в то время были недоступны, все иностранные источники были закрыты для меня, советские тем более. Однако, как я впоследствии узнал, мой диплом был широко использован для защиты кандидатских степеней, на её основе было написано несколько диссертаций. Я помню, что когда я писал диплом, кто-то на радио показал мне «из под полы» иностранный технический журнал о новинках в технологиях с грифом «секретно» на обложке, ежемесячные выпуски которого переводились на русский язык с тем, чтобы специалисты в разных областях военной индустрии могли бы знать, а что происходит «там». Ожидалось, что по окончанию института Фокин возьмёт меня на работу в свою редакцию. Однако произошло непредвиденное: он пропустил в эфир стихотворение Е. Евтушенко «Качка», в котором говорилось, что происходит на корабле, под которым подразумевался Советский Союз, во время бури. Он не только не взял меня на работу, но и сам еле удержался на телевидении. В 1992 году благодаря своей русско-грузинской приятельнице Тамаре (человеку высокой эрудиции и блистательного ума) во время визита в Москву я познакомился с обаятельной дочкой Юрия Фокина. Она поведала мне, что её отец после работы на телевидении несколько лет был послом СССР в Греции. Однажды на приёме в посольстве был Анасис. Дочка Фокина разговорилась с ним. Её впечатление, в противовес тому, что создало ТВ, прямо противоположное. Она сказала мне, что он был “море обаяния”, я привёл её слова. И ещё одна деталь из моего знакомства с Тамарой, которая по моему вызову прожила некоторое время в Штатах, работая прислугой где-то в Коннектикут, и, разочаровавшись, вместе с уже довольно взрослым сыном вернулась в Москву. Отец её, которого в настоящее время уже нет в живых, был начальником ракетных войск Варшавского Пакта. Тамара дала мне прочитать его книгу о Сталине. Меня хватило только на первый том. Я не хочу критиковать эту книгу, которая, возможно, была издана – чего только не издали в России после развала СССР, – произведение это не достойно критики. На мой взгляд, такое мог написать только начальник ракетных войск, “настоящий грузинский патриот”. *** В Историко-Архивный институт я поступил в возрасте 28-ми лет. Однако, я был далеко не самым «старым» студентом на моём курсе. Был у нас также на курсе ещё один значительный человек, вместе со мной оказался ещё один пожилой еврей – Моисей Коган. Значительность его состояла в том, что он был старше нас всех лет на десять, имел ярко-выраженную еврейскую внешность и не очень здоровую голову. Я думаю, ему было где-то около 40 лет да и выглядел он на этот возраст с его облысевшей головой. Человек он был со многими странностями, присущими довольно часто нашей нации. О нем и его невероятной деятельности в стенах института можно рассказывать без конца, но эти воспоминания не о нём, поэтому я ограничу себя очень кратким описанием нашей последней встречи на ступеньках, ведущих с улицы 25-го Октября в здание нашего института, где в это время почему-то толпилось очень много студентов. Надо отметить, что наш Историко-Архивный институт был «кузницей» кадров для МВД, КГБ, милиции, отделов кадров засекреченных предприятий. По окончанию нашего ВУЗа выпускникам, у которых в «пятом пункте» советского паспорта не стояло угнетающе странное слово «еврей», была открыта широкая дорога. Кроме того, что их вербовали в архивы КГБ и МВД с соответственными окладами, о которых было даже трудно мечтать выпускникам многих других советских высших учебных заведений, Министерство Иностранных Дел СССР также с удовольствием брало наших ребят, главным образом шифровальщиками в советские посольства за рубежом, материальное положение которых с самого начала их рабочего «пути» было предметом зависти. Некоторые не очень яркие представители нашего института стали шифровальщиками в советских посольствах. По окончании института Коля Парунцев стал начальником Первого отдела в закрытом секретном научно-исследовательском институте на Преображенской площади, Миша по окончании, ко всеобщему удивлению, пошёл работать в архив и следователем МУРа (Московского уголовного розыска). Не совсем обычно сложилась профессиональная карьера, по крайней мере на её ранней стадии, у мягкого улыбчатого Валерия Зарубина. Он был аккредитирован в качестве специального корреспондента одной из центральных советских газет “Советская Культура” в Голландии, предварительно пройдя подготовку в школе (специальном училище) КГБ. Вся информация о нём у меня не из первых рук. Какова дальнейшая его судьба я не знаю, также не знаю каковы судьбы Коли и Миши. Надо также отметить, что среди этих «избранных» не было ни одного еврея. Почти все они, как и я, получили свободное распределение. Одним из них был Эдуард Родзинский – значительный драматург, известный во многих странах мира из-за авторства его книги о Сталине. Другое дело Моисей Коган, его распределили в архив города Биробиджана – столицы Еврейской Автономной области. Узнав, что Моисея распределили в несостоявшуюся Еврейскую Биробиджанскую автономную область и встретив его на лестнице по пути на улицу среди большой группы окончивших институт студентов, я сказал ему: “Запомни, Моисей, ты будешь один еврей в том месте, куда тебя посылают, единственным евреем в Биробиджане, поэтому не посрами там нас и нашу нацию”. Я не знаю о нём и его дальнейшей судьбе ничего, кроме одного: хотя он и был психически не совсем уравновешен, на Дальний Восток он не поехал. *** Когда я пришёл в 1956 году работать на московское телевидение (устанавливать камеры и протягивать кабель, соединяющий эти камеры с передвижной телевизионной станцией – ПТС – для внестудийных трансляций), основа его творческого коллектива состояла главным образом из отбросов московских театров – неудавшихся режиссёров и актёров. Думаю, что эта ситуация продолжалась довольно долго, т.к. ещё в 1972 году – год моей эмиграции – в СССР всё ещё не было ни одной телевизионной школы. Не лучше было и с телеоператорами. Это были абсолютно случайные люди с очень низким культурным уровнем. Только двое из них – мой друг Игорь Игнатов и Дима Серебряков – учились на заочном операторском отделении Всесоюзного Государственного Института Кинематографии. Я хорошо был знаком с людьми операторского цеха, т.к. около двух лет был ассистентом телеоператора там.  Я был связан с телевидением в течении 16-ти лет: с августа 1956-го до моего отбытия осенью 1972-го, т.е. с 24-х до 40 лет. Через 10 лет после того, как я впервые прошел через проходную на Шаболовке, меня приняли в штат Главной Редакции Музыкальных Программ Центрального телевидения старшим редактором на очень популярную в то время до и после передачу «Голубой огонёк».Так случилось, что без всякого блата я добрался до должности редактора наипопулярнейшей телевизионной передачи «Голубой Огонёк», которую каждую субботу по вечерам смотрело 80 миллионов советских граждан. Среди многочисленных работников редакции было около 20 евреев. Главным редактором в течении многих лет была Нина Нерсесовна Григорьянц. Кто же ещё состоял в штате редакции в мои годы там... Одной из самых незаметных личностей была Кира Политковская, ассистент телережиссёра, – племянница жены Сталина Алилуевой, отсидевшая значительное количество лет в лагерях. Был режиссёр, фамилии его я не помню, которого подозревали в жестоком убийстве жены Всеволода Мейерхольда Зинаиды Райх. Должность хозяйственника занимал бывший офицер КГБ Кофтуненко, которого уволили из охраны Сталина за изнасилование дочки полковника из той же охраны. Заместителем главного редактора был заслуженный деятель искусств Армянской ССР композитор Пападжанов, которого по указанию Центрального Комитета Партии для укрепления редакции прислали из Еревана и который, дабы добиться популярности среди редакторского состава, говорил, что он армянский еврей, зог. Я так и не выяснил, была ли правда в том, что он рассказывал. А говорил он, что будто бы в царствование Давида или какого-то другого царя для улучшения армянской нации в Армению завезли 200 тысяч евреев. *** Иногда меня спрашивают, что я делал в своей прошлой жизни. Иногда я честно отвечаю, что работал на телевидении. Тогда меня спрашивают, а что я делал на этом самом телевидении. Иногда я также честно отвечаю, что делал передачу “Голубой огонёк” или “На огонёк”, как вам угодно называть эту программу.  Тогда в подавляющем большинстве случает, люди восклицали: “Ах, как мы любили эту передачу”. Вчера я смотрел довольно популярную программу «Биография» (Biography), в которой нам рассказали об американском феномене – судье Джуди (Judge Judy), которая по количеству зрителей, смотрящих её шоу, и по заработываемым деньгам превзошла другой чисто американский феномен, ведущую другого шоу – негритянку Опру Уинфри (Opra Winfry), которая в детстве по утверждению моей приятельницы Саши имела «даун синдром». Если Опра является олицетворением мещанского вкуса большинства американцев как чёрных, так и белых, то первая – это квинтэссенция всего плохого, что есть в евреях. Под этим углом надо рассматривать и то, что они производят – с моей точки зрения – отвратительные программы (trash). Возвращаюсь к тому, что я стряпал, отдавая все свои физические силы и далеко не выдающиеся способности. По официальной советской статистике, мою передачу смотрело ежесубботно до 80 миллионов зрителей. Таким образом, я удовлетворял вкусы огромного количества людей, думающих одинаково. Встаёт вопрос: “А кто эти люди?” Техническое состояние советского телевидения по отношению к американскому можно было измерять в световых годах – настолько оно отставало. Но в удовлетворении потребностей масс, наше «родное» советское ТВ, приближалось к телевидению Америки, несмотря на жесточайшую цензуру и самоцензуру, а, может быть, именно благодаря этому. Самоцензура – вещь легко объяснимая. Мы работали как солдаты-минёры, ошибся – подорвался, т.е. в нашем случае потерял работу, или получил выговор, или тебя понизят в должности, или найдут что-нибудь ещё более унизительное для человеческого достоинства. *** “The Daily Iowan”, Vol. 109, No. 165, March 14, 1977: « Soviet television promotes party “Russian TV violates creative spirit” by Becky Coleman, Staff Writer While the main goal of American television is to sell products, Russian television sells the Soviet way of life. This observation was shared at a Refocus '77 workshop Saturday by Marat Katrov, who, until he emigrated in 1972, worked in the U.S.S.R. as a television cameraman, news writer, freelance journalist and senior editor for a musical program. Katrov was also one of six participants in a panel discussion about American and British programming which followed his speech. The Russian philosophy of promoting the Soviet party line affects every decision in the system: What will be telecast, what type of equipment and which actors will be used, and who will be the top administrators, Katrov said. Guidelines for Soviet television were influenced by Lenin's ideas about radio as a means to spread propaganda and agitation to the masses, Katrov said. When television sets came on the market after World War II, there was a great appetite for information, but the technical and artistic quality of the programming was poor. Leftovers from other media. those who had failed in their fields, were hired to work in television. Those in power who supervised the new medium had no concern about its creative capabilities, Katrov said. They did not want the people to use their minds. During the '50s, Russian television was influenced by Western European talent such as the Italian Neorealists. After the death of Stalin, the rigid controls on what could be shown seemed to weaken, Katrov said. Technology advanced to allow television to reach outlying communities. News in Russia is shown in 15-minute segments, but bad news happens only in other countries. Sports coverage is partisan: if the Russian team starts playing badly, the program is interrupted because of “technical difficulties”. It is only resumed when the team starts winning again. If the team loses, the sports fan must look to the final page of Pravda to learn the final score. 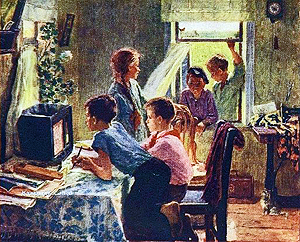 Russian editors must maintain inside themselves a censor who never slips, Katrov said. “Editors are like those who must clear mine fields—they can make only one mistake.” A joke that editors make about their jobs is “We have our own opinion, but we don't agree with it.” Newscasters have been dismissed for unintentionally mispronouncing words, changing the meaning of the sentence. Those who work for Soviet television come from the State Institute of Cinema, Moscow State University and some special schools run by the Central Committee that the average citizen may not know about. Employees are checked out by the KGB, and KGB members are in many administrative positions. When it was learned that more Communists worked in Italian television than in Russia, 15,000 workers lost their jobs and were replaced with party members. Katrov read a list at the Refocus workshop, describing a day's programming in the U.S.S.R. It included programs such as “Our Biography 1931,” “Chess School,” musical competitions, sports events, a three-hour intermission in early afternoon, and news. Some programs were in color, others in black and white. “If you are bored just listening to the list of programs, how would you feel to watch them?” Katrov asked. “You worry about violence in American television. While there is very little physical violence in Russian television, nothing equals the violence done to the creative spirit, the hearts and minds of the Russian people by Russian television.” A panel discussion about the relative freedom of American and British programming followed Katov's speech. Members of the panel included Katrov, Susan Rice, script writer, Sarah Boston, British filmmaker, Allen Rucker of Top Value Television (TVTV), Brad Buckner, a writer for Mary Hartman, Mary Hartman, and Dick Wheelwright, UI instructor of journalism. Boston said there is freedom for the artist in England, within limits. “Once you challenge those limits, you are out. You can stand up on your soapbox in Hyde Park, but you can't stand up on the BBC and say it to 50 million people. “I think that you get the television you are given,” she continued. “English television is as racist and sexist as here. It is there to uphold a very powerful political system, which is why it doesn't allow critical elements to be more than a side show.” Rucker suggested that there would not be a savior for television until a valid post-TV technology has been developed, such as program discs for individual consumption. He added that one way to break up commercial television is by syndicating shows, as Norman Lear did, when the networks refused to accept Mary Hartman. While the syndication market is growing, the money for syndicated programs is not as great and production must be at a lower level. When asked about the effect of the Larry Flynt (Hustler magazine) case and pornography on television programming, Rice replied that there seems to be a stronger reaction to violence in children's programming, and mentioned research that suggests that watching television can turn children into “TV zombies.” “I think we should ask whether television is an appropriate medium for pornography,” Rice said. “The program Midnight Blue (a late-night pornographic program in New York) is so boring. The most exciting part about seeing a porno movie is buying the ticket. “I am more interested in eroticism, covered-up sex,” Rice added. “In television there is a more subtle censorship of the checkbook. Whoever buys the show says what can be done; it's known as 'creative consultation.' Writing for television is the practice of a craft, a collaborative process. “What I want to write about sex doesn't have much to do with fucking,” Rice said, “I saw a vasectomy performed on cable television. Geraldo Rivera had a show about the Hite report, and the words clitoris and vagina were used on the air.” “We have a lot of titillating sex, double entendres, on English television,” Boston said. “When major producers wanted to produce a serious, educational program about sex, it was banned.” Rice said she was surprised how closely individual words were watched when she started writing for television. Rucker agreed that words like “toilet,” “Jeez” and certain combinations like “Mary and Joseph” were not allowed. Buckner said it was specific words that aroused comment on Mary Hartman rather than themes of the programs. “We lost a station (WMT) because of a bleeped clitoris,” he said. “They thought it was Polish for something else,” Rice suggested. » ***  Году в 1966 или 1967 после женитьбы Зина и я жили в огромной коммунальной квартире на Сущевском валу, которую нам временно уступила её двойняшка Лариса. Придя однажды довольно поздно домой и плотно поужинав, мы легли спать и как положено сравнительно недавним молодожёнам занялись своим делом при включённом телевизоре. Всё шло, как надо было у физически здоровых молодых людей, однако вдруг я услышал совершенно необыкновенное пение на французском языке. Я воскликнул: «Это восхитительно, это невероятно». Естественно, Зина восприняла мою восторженность на свой счёт. А я добавил: «Эта же новая Эдит Пиаф». Так я открыл для себя Мэрей Матьё, ей было тогда 18 лет. *** Некоторые из моих знакомых, и их немало среди совсем немолодых людей, рассказывают, что будучи женатыми, они постоянно «ходили», если так можно сказать, к блядям. А мне сегодня пришло к голову то, что в мои женатые периоды я не делал этого. Зачем? 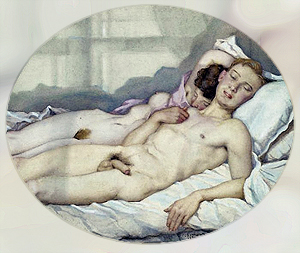 Когда есть блядь дома. Эта мысль, видимо, у меня в голове сидела подспудно и постоянно. Конечно, возникает вопрос: на ком были женаты они и на ком я. *** К своей дочери Марине после её рождения я относился, как и большинство отцов: в меру любил, делал всё необходимое, чтобы её ранняя жизнь была бы более чем комфортабельной, конечно, учитывая её возраст. Так продолжалось до одного памятного мне дня.  Марине было девять с чем-то месяцев, я сидел на диване, держа её у себя на коленях, она была в одной распашонке. Мне было с ней так хорошо, что я на радостях поднял её над собой, говоря о том как я её люблю. Счастливо заворковав, Марина выпустила не струю, а целый водопад – всё попало мне в рот. Это было началом неограниченной любви к моей дочери. С тех пор Марина не перестаёт писать мне в рот, хотя ей уже сорок лет, и её неудержимые водопады вымыли до тла мою любовь к ней. *** Если бы я знал, какой нос будет у Марины в 40 лет, я бы не женился на её матери.  Чтобы быть до конца честным, скажу, что мне не безразлично, какой нос у моей внучки Маши или каким он будет, когда она подрастёт. Но тем не менее, я её люблю такой, какая она есть, и заранее, какой она будет. *** Однажды в новом здании телевидения в Останкино появился новый отдел. Назывался он “Отдел перспективного планирования телевидения”, возглавлял его Ефим Брук. Поистине, только гениальная предприимчивость евреев может изобрести нечто подобное. Я иногда заглядывал в огромную комнату этого отдела, т.к. туда взяли на работу моего сокурсника по Историко-архивному институту Бориса (в большинстве случаев, как правило, фамилию не помню). В комнате стояло масса столов, как в каком-то учебном заведении, а впереди под углом у единственного окна стоял большой стол начальника – Фимы Брука. Только на трех ближних к начальнику столах лежали какие-то бумаги, указывающие на то, что здесь должны сидеть работники отдела. Все остальные столы, а их было штук двадцать, блистали чистотой: на них ничего не лежало. По рассказам Бориса, Фиме удалось продать идею, будто бы появившуюся в Японии, о необходимости перспективного планирования телевидения самому Председателю Комитета тогда ещё Николаю Месяцеву. Отдел, насколько я помню, просуществовал недолго. Потом я встретил Фиму в середине 70-х в Нью-Йорке. У него было двое детей и красивая русская жена. Фима и сам недурно выглядел, только рано полысел. Хотя я был у него дома несколько раз, знал его очень поверхностно. Думаю, он был незлым человеком, а скорее даже добрым. К тому времени, когда я его встретил, он оставил какой-то несостоявшийся бизнес и что-то преподавал в одном из колледжей в окрестностях города. Меня удивило то, что где бы я не находил упоминание о Фиме Бруке, а это относится ко второй половине 70-х годов, везде говорилось, что он был создателем “самой популярной телевизионной передачи «Голубой огонёк»”. За шестнадцать лет работы на телевидении я никогда не встречал его ни в одной творческой редакции, а по своим авторским делам и в силу общения с друзьями и знакомыми мне приходилось часто заглядывать во многие из них. *** Много лет назад, когда я работал в Главной Редакции Музыкальных программ Центрального Телевидения, в моменты интеллектуального безделия (т.е. когда мы встречались, я бы сказал не в узкой компании, потрепаться обо всем, выпить и закусить, естественно, не забывая прекрасный пол) я часто высказывал мнение (а тогда ещё не было ни Чечни, ни Афганистана, ни Аль-Каиды, ни Одиннадцатого Сентября, а была реальность жестокой Холодной войны – идеологической между Западом и Востоком), что человечество ждёт жуткое побоище между представителями различных религий.  Очень печально, что моё предсказание, в котором, думаю, я был далёко не одинок, оказалось беспощадной правдой. |