 |
 |
 Через несколько недель после приезда в Израиль меня взяли на работу корректором в русскоязычную газету “Трибуна”. От нечего делать, а может быть и по призванию, я стал писать на различные темы, отдавая написанное бесплатно в газету, а та не брезгуя, стала печатать. Ещё через несколько недель владелец газеты, болгарский еврей (большая редкость) Даниэль Амарилис предложил мне сидеть дома и писать на любую выбранную мною тему и в любом количестве. За это мне было обещали 600 израильских лир в месяц, что-то около 150 американских долларов, которые мне хватало на оплату комнаты в отеле “Бейт Бродецки” и обедов в его столовой. Короткое время я работал, я бы сказал, в независимой русской газете.  Поскольку Амарилис не очень понимал, что играет с огнём, я имею ввиду политическую линию газеты, он печатал, платя мне абсолютные гроши, всё, что бы я ни написал. И всё бы текло своим чередом, если бы я не написал статью “За битого двух небитых дают” о том, что меня и Илью Белау (был такой человек среди моих тогдашних друзей) обидели израильские полицейские в здании Министерства абсорбции, я критиковал израильскую полицию за её отношение к эмигрантам из Советского Союза. После того как была издана моя статья, которая взбесила верховного комиссара израильской полиции, потребовавшего немедленной встречи со мной, мне стали угрожать. Статья, кстати, возмутила не только полицию, но кое-кого из сильных мира того, а также некоторых эмигрантов, так сказать, бывших моих “подельников” по отбытию из благословенной богом страны, которым хотелось на “новой родине”, если такое вообще бывает (я говорю о “новой родине”), присоединиться к местному истеблишменту. Один из них, по имени Изя Ольшаи (Ольшанецкий в России, будто бы бывший сценарист с Мосфильма, он был мужем известной литовской певицы Виды Вайткуте, которую я неоднократно приглашал на свою программу в Москве, и вообще, с ними двумя я был в дружеских отношениях не только в Москве, но и по приезду в Тель-Авив), угрожал мне физической расправой, намекая, что это не пустые слова, а что будто бы угроза идёт с израильского Олимпа. Однажды Изя, встретив меня в Доме журналистов в Тель-Авиве, сказал: «Мы тебя уничтожим». Как я понял “мы” – это партия Авода (Труда), которой Изя лизал определённое место, ибо эта партия была у власти и распределяла среди эмигрантов материальные блага. Я был сильно удивлён, т.к. до эмиграции мы были в дружеских отношениях, а его жена – высокая красивая певица из Литвы – несколько раз участвовала в моих программах “Голубой Огонёк”. Статья имела и другой резонанс. (Замечу, что к тому времени я уже точно решил покинуть свою историческую родину и, зная, что могу завязнуть в израильской бюрократии (дело в том, не знаю как сейчас, а в то время страна жила по смеси законов английского протектората и Оттоманской империи), стал изучать иврит. Не выдумываю: за три недели я научился сносно объясняться и даже писать.) Так вот, мне позвонила знакомая израильтянка и сообщила, что со мной хочет встретится Шуламит Алони.  Кроме того, что Шуламит была одним из самых популярных членов Кнессета от либеральной партии Труда (Авода), она занимала руководящую позицию во второй по величине газете Израиля “Идиот Ахаранот”. На встрече Алони сказала, что ей нравится дух и стиль моих статей и она хотела бы иметь меня в штате её газеты, кроме этого она добавила, что мне дадут личного переводчика и я должен буду за счёт газеты изучать иврит и английский. Но к тому времени “кости уже были брошены”, я окончательно решил покинуть страну, а чтобы не обидеть её за такое щедрое предложение, я попросил её дать мне подумать несколько дней. Удивившись, она сказала: “Тов (хорошо)”. Но искушения только начались. Вскоре у меня состоялась встреча с главой, как я думаю, государственной телевизионной компании, на которую он специально приехал из Иерусалима. Это был очень молодой, недавно вышедший в отставку из ЦАХАЛа (израильской армии) в звании полковника, человек. Было ясно, что на встречу он прибыл без определённого плана, просто, чтобы познакомиться со мной. Не думаю, что я произвёл на него глубокое впечатление, т.к в последующие за этим несколько недель предложений от него не поступило. Правда, надо сказать, что при встрече он говорил о позиции телеоператора, поэтому он не увидел на моём лице ни грамма энтузиазма. Но на этом, я бы сказал, временный спрос на меня не закончился. Через какое-то время я был приглашён в штаб-квартиру второй по величине политической партии Израиля Херут, глава которой в то время был Менахэм Бегин. Надо сказать, что я с удовольствием принял это приглашение, т.к. разделял консервативную платформу партии. К тому времени в стране были две русскоязычные газеты: как вы помните, та в которой я работал и которая называлась “Трибуна”, имевшая неярко выраженную либеральную позицию, если у неё вообще была какая-либо позиция, и “Наша страна”, принадлежащая либеральной партии и выражающая интересы ненавистных мне профсоюзов. На состоявшейся встрече руководство Херута посетовало на то, что у них нет собственной русской газеты, через которую партия могла бы общаться с нахлынувшим потоком русской эмигрантов и тут же добавило: не хотел бы я заняться организацией такой газеты. Можно было только мечтать о таком предложении, однако меня хватило на то, чтобы задать один вопрос: “А кто будет диктовать политику газеты?” “Партия”, – был ответ. Затем я задал ещё один вопрос: “А у вас нет какой-либо другой работы?” “Есть, мыть посуду в партийном кафетерии”. Так до отъезда в Италию я мыл посуду в кафетерии партии Херут. От меня можно услышать, что мудрость и интуиция приходят с годами. Тогда я не был, как американцы любят говорить, “весенним цыплёнком”, мне было уже 40. Как же я мог похоронить то, о чём люди мечтают? Мне это пришло само в руки, а я насрал себе в душу, извините за выражение. Не могу сказать, что время всё исправило или исправит, не было времени и его совсем не осталось. Теперь вы понимаете, почему я затеял разговор о том, что мне предвещали в моём раннем детстве. Есть прямая связь между тем, кем нас видят люди, и благоприятными возможностями, которые нам могут представятся в жизни. Не упускайте их. Я не извиняюсь за нравоучения, пожалуй, это стало моей натурой. Люди жуть как не любят это, но всё время обращаются за советами. *** Жизнь упущенных возможностей. *** Был в Одессе Яша Юхтман – международный мастер по шахматам, который регулярно входил в команду Советской Армии. Не мне судить о его шахматных способностях, его коллеги, шахматисты с мировым именем, отзываясь о нём отрицательно как о человеке, говорили, что шахматист он талантливый. Он умер в Нью-Йорке в 1985 году, однако это не останавливает меня от того, чтобы выразить своё впечатление о нём: он был злым, некультурным и, главное, неблагодарным человеком. Но об этом я узнал, когда покинул Израиль.  В стране же маминых предков мне рассказали историю чемпиона Израиля, который к тому времени покинул страну. Им был Яков Юхтман. Поскольку в то время я работал в русской газете “Трибуна”, мне показалось, что это событие из жизни советской эмиграции заинтересует наших читателей. Результатом собранного мною материала явилась статья “Почему чемпион Израиля покинул свою историческую родину?” Я даже хотел поставить историческую родину в кавычки, но главный редактор газеты и её владелец, болгарский еврей Амарилис, категорически запретил. Трудно поверить, но эта моя статья в русскоязычной израильской газете позволила мне познакомиться с частью еврейского криминального мира, уже эмигрировавшего из Советского Союза, о существовании которого я имел представление только из книг Бабеля. В конце мая 1973 года после некоторых перипетий как положительного, так и отрицательного характера, я сел на итальянский пароход в порту Хайфы, навсегда распрощавшись со страной, в которую так неудержимо стремились многие из нас, так что часто можно было услышать в Москве: “Меня только бы отпустили, я бы пешком ушёл”. Я совершенно не мог понять, как можно добраться пешком до Израиля, ведь обязательно нужно пересечь Средиземное море, а если пойдешь другим путём, то Босфор и Дардареллы. Правда, есть ещё третий путь, но им владел только Иисус Христос. Впрочем, не будем углубляться в географию. Потом в Израиле я написал статью “О любителях больших пеших переходов”, т.к. мне пришлось снова услышать уже там: “Меня только бы отпустили, я бы в Россию пешком ушёл”. Итак, позагорав на палубе небольшого пассажирского парохода, а ночью помёрзнув там же, на утро третьего дня мы пришвартовались в Неаполе, откуда поездом я добрался до Рима. 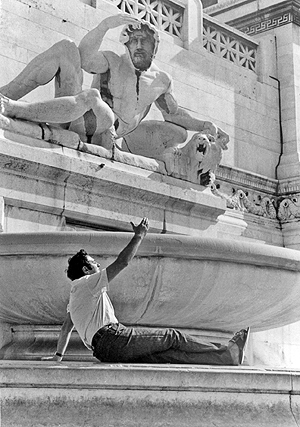 Я не помню многих деталей своего прибытия в Риме, однако хорошо запомнилось, что Хайяс поместил меня в пансион Ламармара на Вия Александрия, невдалеке от центрального железнодорожного вокзала в Риме. Перед пансионатом Ламармора на пешеходной части улицы было много белых столиков со стульями, которые принадлежали кафе, вход в которое было рядом со входом в пансионат Ламармора. За этими столиками, можно было безошибочно узнать, сидело значительное количество моих сограждан самого разного возраста. С первого взгляда я понял, что их что-то объединяет. От нечего делать я присел к одному из столиков. Я не был инициатором беседы, которая состоялась немедленно с господином, устроившимся за соседним столиком, вы знаете, что евреи, а особенно южане, люди общительные. Тут же выяснилось, что почти все они из Одессы. На мой вопрос “Чем вы занимались в Одессе?” ответ был стандартный с небольшими вариациями: “Я был инженером по текстилю”, “Я был инженером по обуви”, “Я был инженером по трикотажу” и т.д. и т.п. Простите, я тогда был ещё совсем невинным человеком, поэтому принимал всё за чистую монету. Глаза мои открывались понемногу. Уже в первый день я был свидетелем примечательной сцены, которая не только сильно поразила меня, но и показала, что это люди с большим, если это можно так назвать, чувством юмора. Итак, рядом со мной сидела пара мужчин, которые о чём шептались, вдруг из одного из соседних столов поднялась женщина и стала кричать, обращаясь к шептавшемся: “Ты опять собираешься идти тратить деньги на порнуху, я тебе, блядь, покажу порнуху…” Она вскочила на стол и задрала юбку, – под ней не было ничего, кроме того чем её наградили природа. Эта сцена произошла в центре Рима на глазах не только нас, эмигрантов из Советского Союза – граждан второго сорта, но и значительного количества проходивших мимо итальянцев. В тот же день случилось ещё одно “значительное” событие в моей не очень-то благоприятной эмигрантской жизни. Проводя время за столиком кафе, я обратил внимание на то, что некоторые из его посетителей читают газету “Трибуна”, ту самую, в которой я работал в Израиле. Мне захотелось узнать, почему они предпочитают именно эту газету, а не более популярную в Израиле среди выходцев из России “Нашу страну”. В завязавшейся беседе я открыл им, что работал в этой газете. Тогда они спросили, кто скрывается под псевдонимом Петрович. Когда же я сказал им, что вы видите его перед собой, я стал моментальной знаменитостью и тут же понял популярность, хотя и временную, газеты, в которой когда-то работал. Дело в том, что шахматист Яков Юхтман, о котором я написал статью “Почему чемпион Израиля покинул свою историческую родину” был весьма уважаемым лицом в среде евреев-эмигрантов из Одессы. В статье Яков был представлен положительным человеком, желающим только самого наилучшего своей новой родине, но по независящим от него обстоятельств вынужден покинуть её. Всё это позволило мне пользоваться расположением одесситов и их щедростью: каждый день кто-то из них покупал мне чашечку незабываемого капуччино, хотя я и сам мог бы это делать без ущерба для своего бюджета, ибо цена её была 12 центов. Вскоре там же, около пансионата Ламармора я познакомился и с самим Яшей, который, узнав, кто я, пригласил меня поесть в кафе. Завязавшиеся отношения продолжались и в Нью-Йорке, где я его постоянно встречал в игорном клубе в подвале гостиницы “Beacon” и в другом клубе на 72-ой улице между Бродвеем и Коламбус. Они также неожиданно окончились как и начались. Яша имел необыкновенные способности оскорблять людей, которые искренне хотели ему помочь. В то время он уже, видимо, был неизлечимо болен: диабет, серьёзная сердечная недостаточность. Однажды мы договорились вместе пойти к врачу, я должен был выступать как переводчик. Когда же я позвонил ему на следующий день в середине дня, чтобы условиться о месте встречи, он заорал на меня: зачем я его разбудил. На этом закончились наши отношения, а через несколько лет я узнал, что он умер. Было ему где-то около 50-ти. Немецкая шахматная федерация каждый год устраивала матчи-турниры городов. Города-участники нанимали легионеров – сильнейших шахматистов из разных стран мира. В конце 70-х – начале 80-х Яков Юхтман, пока ещё он ещё был в форме, постоянно участвовал в этих матчах, зарабатывая на жизнь. Не помню точно в каком году это случилось, он победил немецкого гроссмейстера Хубнера, входившего тогда в тройку сильнейших мира. *** И ещё одна страничка из моей жизни, связанная с однажды уже упомянутой выше Верховной Комиссией по Делам Беженцев. В иностранном вещании радио работал музыкальным редактором очень приятный парень лет на 5-7 моложе меня, окончивший Московскую Консерваторию по классу фортепьяно. Имя и фамилию его как и его жены я не помню, прошло уже 30 с лишним лет с той поры. Жена его была внучкой Мишеля Симона – «Господина Такси», национальной гордости Франции, швейцарцем, снявшимся в одноимённом очень нашумевшем в своё время фильме «Господин Такси». Она училась и окончила Государственный Институт Кинематографии, по окончании которого вместе мужем и маленькой девочкой поселилась в Женеве, в шато, специально купленным для неё Мишелем Симоном. Я не помню как мы нашли друг друга, но благодаря их приглашениям я четыре раза, живя в Италии, посетил Женеву. Надо сказать, что каждый раз, когда я останавливался у них, утром появлялся полицейский и справлялся, как я думаю, о благонадежности остановившегося у них гостя. В последний мой визит в Женеву мои друзья предложили мне остаться в Швейцарии, сказав, что в университете Женевы для меня есть позиция преподавателя-инструктора русского языка. Как оказалось, кроме меня на эту работу претендовал Симон Маркиш – сын идишисткого поэта Переца Маркиша, которую он в дальнейшем получил и который, абсолютно не зная меня, в изданной впоследствии им книге написал, что был в Израиле такой Марат Катров, который на «всех углах Иерусалима и Тель-Авива кричал: “Бей жидов”». Я не скрывал и не скрываю, что невзлюбил Израиль за его моментально бросающуюся в глаза местечковость и абсолютную узость мышления с первых минут переезда туда, однако я никогда не забывал, от кого я родился.  Для того, чтобы я мог легально остаться в Швейцарии, жена моего приятеля повела меня в Комиссию по Делам Беженцев при ООН, выступив там в роли переводчика. В то время у меня был уличный итальянский и забытый немецкий. Хорошо помню, что принял нас не один сотрудник ООН, а сразу два – один выглядел как еврей и оказался арабом, а другой, естественно, выглядел как араб и оказался евреем. Выслушав меня через моего переводчика, они заспорили. Араб был за то, чтобы дать мне статус беженца, а еврей доказывал, что я не могу быть беженцем второй раз, т.к. я уехал из свободной страны Израиль. Победил еврей, мне было отказано в статусе и предложено немедленно покинуть пределы Швейцарии, если я хочу когда бы то ни было приехать туда. Мне даже дали деньги на дорогу. Совсем недавно я узнал, что только Бельгия по настоянию короля в то время (семидесятые годы) давала статус беженца тем, кто прибыл из Израиля, эмигрировавшим до этого из Советского Союза. И ещё о Швейцарии. Недавно я был на концерте Американского Симфонического оркестра. Его музыкальный директор и главный дирижёр последних несколько лет Леон Ботштейн – талантливый интерпретатор и неустанный пропагандист не только современной классической музыки, но особенно музыки периода Ренессанса, и привлекающий к участию в своих концертах молодых способных исполнителей. К этому концерту, как и к каждому, которым он дирижирует, маэстро Ботштейн пишет аннотации «Dialogues and Extensions», в которых он не только высказывает своё отношение к произведениям исполняемым в концерте, но и останавливается на политической и общественной жизни Швейцарии. Дело в том, что в тот вечер, о котором я начал говорить, исполнялись произведения только швейцарских композиторов и он проходил под названием «Swiss Accounts». Хотя Л. Ботштейн уже давно живёт в Штатах, он и его брат и сестра родились в Швейцарии от родителей – беженцев из Польши. Мне понятны сантименты мистера Ботштейна к своей, я бы сказал, первой родине, однако, я думаю, что предлагать Швейцарию как государственную модель для европейцев не совсем верно. Я не отрицаю того, что политическое устройство подобное швейцарскому было бы идеально для множества стран мира. Однако... Как-то поздним вечером я проходил в Базеле мимо бара, неожиданно из его дверей вывалилась довольно пьяная группа молодёжи, и о чудо, увидев стоявших в невдалеке полицейских, она моментально протрезвела. И ещё из той же оперы. Когда я приехал первый раз навестить моих женевских друзей в их шато, на следующий день утром в их доме появился полицейский и вежливо попросил проинформировать его о личности гостя, т.е. обо мне. Я приехал к ним накануне поздно вечером, поэтому всех нас удивило, откуда он узнал о моём прибытии. «Ларчик» открывался очень просто – от соседей. *** Однако, вернёмся к моему приезду в Рим. Я уже упомянул Хайяс (ХИАС, HIAS – Hebrew Emigrant Aid Society) – организация, помогающая евреям-эмигрантам в передвижении по миру. Когда количество еврейских эмигрантов значительно сократилось, Хайяс не прекратил своего существования: организация по-прежнему занимается транспортировкой любых этнических групп, преследуемых на своей родине. Одной из этих групп, которой Хайяс помог достичь берегов Америки, стало более миллиона вьетнамцев, которые бежали из Южного Вьетнама после падения Сайгона. Эта организация щедро субсидируется американским правительством, так что нет смысла прекращать то, что даёт работу с приличным заработком. На этом можно было бы закончить с Хайясом, в общем-то я это и сделал, но только после того, как однажды меня пригласили в одну из многочисленных комнат отделения Хайса в Риме, где меня встретила полковница Шембета – секретного сервиса Израиля с переводчиком. Я и до этого встречался с работниками этой организации и говорил им, что я не обладаю ни какими особыми интересующих их данными, ни в оборонной, ни в идеологической области, где я собственно работал до эмиграции. У меня нет секретов, а если бы были, я бы их с удовольствием продал. Одно я отметил в беседе с ними в Израиле, что советской идеологией руководят умные люди, но по моему они абсолютно безграмотны. И всё-таки, узнав от переводчика, кто эта женщина, я сказал, что пускай она идёт на х... Переводчик воскликнул: «Она понимает русский». «Вот и хорошо», – ответил я и пошёл искать другую организацию, которая бы занялась моей репатриацией в одну из цивилизованных стран мира. Вначале я зашёл в Интернациональный Комитет Спасения (IRC – International Rescue Committee), где меня встретил жутко обрадовавшийся югослав: как же, еврей сбежал от своих к ним. Его радость была преждевременной, я её не разделял с ним. Следующим на моём пути оказался Всемирный Совет Церквей (World Council of Churches). Надо сказать, что этим не исчерпывалось количество организаций занимающихся репатриацией в то время и окопавшихся в Риме евреев. Помню, была Католическая организация и, конечно, Толстовский Фонд. Последний пристраивал только покинувших СССР. Все эти комитеты, общества, фонды зарабатывали неплохие деньги, получаемые из разных источников, но главным образом из Соединённых Штатов... Всемирный Совет Церквей, узнав, что мой отец, родившийся в Румынии, не еврей, отправил меня в Нью-Йорк, куда, как говорили, было «очень тяжело» попасть в то время, под попечительство отца Голдау, приход которого разместился на 82-ой улице между Коламбус авеню и улицей Централ Парк Вест.  Придя к нему в первый раз с двумя румынами, прибывшими в Нью-Йорк в одном самолёте со мной, я увидел среднего роста очень волевого человека. Два румына склонили колени и поцеловали ему руку, я же этого не сделал и не пожал ему руку, т.к. он её не протянул ко мне. Уже на второй день он отправил меня устраиваться на работу в Pan Am building (сейчас это здание принадлежит Metropolitan Life Insurance Co.) на Парк авеню и 42-ой улице. Не знаю, на какую меня работу меня послал отец Голдау, но меня не взяли. И всё-таки на 5-ый день после моего приземления в Нью-Йорке я вышел на работу, поняв, что отец Голдау намного сильнее, чем моё незнание английского языка. Первая работа в Америке – я должен был за 2 доллара 45 центов в час где-то в Бруклине на огромной фабрике проходить два раза за ночь (смена была с 12-ти ночи до 9-ти утра) 5-милевую дистанцию, начиная с верхних этажей, по пути отбивая время на тяжелых часах, висевших через моё плечо. Утром босс приказал мне написать репорт о происшедшем за ночь. Когда же я ему кое-как разъяснил, что выучил первые 50 английских слов в самолёте на пути в Нью-Йорк, он сказал, показав рукой на словарь: «Пиши, у тебя есть словарь». К моему удивлению моё творение удовлетворило его. Прошло много, много лет после этого и я узнал, что специальное отделение Государственного Департамента США расследовало деятельность отца Голдау в Румынии во время Второй Мировой Войны и пришло к выводу, что он обманул американские власти при заполнении документов при въезде в Штаты. Тогда я не знал, чем закончилась история с этим человеком. А сегодня, 2-го января я встретил знакомого мне румына и, вспоминая мой приезд в Нью-Йорк, заговорил об отце Голдау. Мой знакомый рассказал, что после обвинения в сотрудничестве с сигуранцей (органы безопасности во времена Антонеску) и принадлежности к милитаристско-нацистской Железной Гвардии, отец Голдау добровольно покинул Соединённые Штаты, переехав в Португалию, где в 80-е годы в Лиссабоне был убит пулей в шею. Как утверждает мой знакомый, его убили органы безопасности Чаушеску. ***  В декабре 1974 года в Нью-Йорке состоялась конференция славистов Америки. В “столицу мира” я прибыл в апреле того же года и к началу конференции успел поработать ночным сторожем в Бруклине, рабочим склада, шофёром такси (за 4 с лишним месяца я имел 12 разного рода аварий, т.к. злость, накопившаяся у меня от жизненного неустройства, главным образом морального, выливалась в гонки по улицам Манхэттена, где разрешённый лимит не превышает 50 километров в час), уборщиком туалетов в центре Манхэттена. Решив избежать эмигрантское окружение, в котором шансы на овладение языком аборигенов не очень высоки, и затаиться где-нибудь, где я смогу в хотя бы немного прийти в себя и повариться в неэмигрантской среде, начав более или менее серьёзное наступление на основы английского языка, я посетил конференцию. Там я приобрёл друга в лице Джона Глэда, который говорил по-русски, как настоящий москвич, и имел звание профессора в университете Айова-Сити, а во-вторых, договорился о работе в другом учебном заведении штата Айова – Университете Северной Айовы (University of Northern Iowa, который находился в районе Cedar Falls – Waterloo, где находится крупнейший в мире завод по производству сельскохозяйственных машин «John Deer», известный всему миру своими тракторами) – в должности инструктора русского языка. Условия были шикарные: мне платили 1500 долларов в год (750 за семестр) и в придачу я мог жить бесплатно на койке в студенческом общежитии. Сама работа была необременительной: всего 4 академических часа в неделю и иногда подменять заведующего кафедрой русского языка в старших классах.  В конце весны 1975 года после окончания семестра, закончив свои дела в этом университете, значительно прибавив как словарный запас, так и понимание английского, я собрался в Нью-Йорк, где к тому времени у меня уже имелся первый американский друг – Стюарт Кинер. Позвонив Стюарту, я попросил его снять мне комнату в одном из отелей в центре Манхэттена, где бы я не мог встретить ни одного из эмигрантов. Следуя моему указанию, Стюарт зарезервировал для меня комнату в отеле «Winslow» на углу Мэдисон Авеню и 55-ой улицы.  Приехав в отель, я обнаружил, что комнату я могу получить только на следующий день, т.к. Стюарт перепутал день моего прибытия в Нью-Йорк. Мне ничего не оставалось делать, как провести ночь на скамейке в Центральном парке. Въехав на следующий день в зарезервированную для меня комнату, я обнаружил, что в отеле больше эмигрантов из России, чем насекомых. Так, например, прямо напротив моей комнаты обосновался, стуча с утра до вечера на пишущей машинке, Эдик Лимонов-Савенко, дальше в конце коридора жил Яша Левитан, с которым я поддерживаю отношения до сих пор. Я бы не сказал, что в тот период мне виделось «светлое будущее», тем более что и работа грузчиком по доставке полторы тонны фильтрованной воды в день не создавала радужного настроения.  Между тем, вся эта длинная преамбула нужна мне была для того, чтобы описать смешной случай. Однажды, возвращаясь домой ужасно усталый после работы, не в самом лучшем настроении, я вошёл в битком набитый лифт. Моё периферийное зрение, что связано с моей более, чем средней любознательностью и общительностью, отметило, что в углу кабины стоит мой бывший низкорослый земляк весьма уголовного вида. Как бы про себя, надо отдать должное моим провокаторским способностям, но явно зная, кому это предназначено, я спросил как бы самого себя: «А не пора ли ограбить банк?» Блатной в углу как бы подпрыгнул: «Где?» Как раз в этот момент открылась дверь и я выскользнул из кабины лифта. *** Эдуард Лимонов “Это я, Эдичка”: « Проходя между часом дня и тремя по Мэдисон-авеню, там где ее пересекает 55-я улица, не поленитесь, задерите голову и взгляните вверх – на немытые окна черного здания отеля "Винслоу". Там, на последнем, 16-м этаже, на среднем, одном из трех балконов гостиницы сижу полуголый я. Обычно я ем щи и одновременно меня обжигает солнце, до которого я большой охотник. Щи с кислой капустой моя обычная пища, я ем их кастрюлю за кастрюлей, изо дня в день, и, кроме щей, почти ничего не ем. Ложка, которой я ем щи, – деревянная и привезена из России. Она разукрашена золотыми, алыми и черными цветами. Окружающие офисы своими дымчатыми стеклами-стенами – тысячью глаз клерков, секретарш и менеджеров глазеют на меня. Почти, а иногда вовсе голый человек, едящий щи из кастрюли. Они, впрочем, не знают, что это щи. Видят, что раз в два дня человек готовит тут же на балконе в огромной кастрюле на электрической плитке что-то варварское, испускающее дым. Когда-то я жрал еще курицу, но потом жрать курицу перестал. Преимущества щей такие, их пять: 1. Стоят очень дешево, два-три доллара обходится кастрюля, а кастрюли хватает на два дня! 2. Не скисают вне холодильника даже в большую жару. 3. Готовятся быстро – всего полтора часа. 4. Можно и нужно жрать их холодными. 5. Нет лучше пищи для лета, потому как кислые. Я, задыхаясь, жру голый на балконе. Я не стесняюсь этих неизвестных мне людей в офисах и их глаз. Иногда я еще вешаю на гвоздь, вбитый в раму окна, маленький зеленый батарейный транзистор, подаренный мне Алешкой Славковым – поэтом, собирающимся стать иезуитом. Увеселяю принятие пищи музыкой. Предпочитаю испанскую станцию. Я не стеснительный. Я часто вожусь с голой жопой и бледным на фоне всего остального тела членом в своей неглубокой комнатке, и мне плевать, видят они меня или не видят, клерки, секретарши и менеджеры. Скорее я хотел бы, чтобы видели. Они, наверное, ко мне уже привыкли и, может быть, скучают в те дни, когда я не выползаю на свой балкон. Я думаю, они называют меня – "этот крейзи напротив". Комнатка моя имеет 4 шага в длину и 3 в ширину. На стенах, прикрывая пятна, оставшиеся от прежних жильцов, висят: большой портрет Мао Цзэ Дуна – предмет ужаса для всех людей, которые заходят ко мне; портрет Патриции Херст; моя собственная фотография на фоне икон и кирпичной стены, а я с толстым томом – может быть, словарь или библия – в руках, и в пиджаке из 114 кусочков, который сшил сам – Лимонов, монстр из прошлого; портрет Андре Бретона, основателя сюрреалистической школы, который я вожу с собой уже много лет, и которого, Андре Бретона, обычно никто из приходящих ко мне не знает; призыв защищать гражданские права педерастов; еще какие-то призывы, в том числе плакат, призывающий голосовать за Рабочую партию кандидатов; картины моего друга художника Хачатуряна; множество мелких бумажек. В изголовье кровати у меня плакат – "За Вашу и Нашу свободу", оставшийся от демонстрации у здания "Нью-Йорк таймс". Дополняют декоративное убранство стен две полки с книгами. В основном – поэзия. Отель "Винслоу" – это мрачное, черное 16-этажное здание, наверное, самое черное на Мэдисон-авеню. Надпись сверху вниз по всему фасаду гласит "ВИНСЛ У" – выпала буква "О". Когда? Может быть, 50 лет назад. Я поселился в отеле случайно, в марте, после моей трагедии: меня оставила моя жена Елена. Измученный шатаниями по Нью-Йорку, со стоптанными и разбитыми в кровь ногами, ночуя каждый раз на новом месте, порой на улице, я был, наконец, подобран диссидентом и бывшим конюхом московского ипподрома, самым первым стипендиатом вэлферовской премии (он гордится, что первым из русских освоил вэлфер) – толстым, неопрятным и сопящим Алешкой Шнеерзоном. "Спасителем" отведен в вэлфер-центр на 31-й улице за руку и в один день экстренно получил пособие, которое хотя и опустило меня на дно жизни, сделало бесправным и презираемым, но я ебал ваши права, зато мне не нужно добывать себе на хлеб и комнатенку, и я могу спокойно писать свои стихи, которые ни здесь, в вашей Америке. ни там, в СССР, на хуй не нужны. Так как же все-таки я попал в "Винслоу"? Друг Шнеерзона – Эдик Брутт – жил в "Винслоу", там же, через три двери от него стал жить и я. 16-й этаж весь состоит из клеток, как, впрочем, и многие другие этажи. Когда я, знакомясь, называю место, где я живу, на меня смотрят с уважением. Мало кто знает, что в таком месте еще сохранился старый грязный отелишко, населенный бедными стариками и старушками и одинокими евреями из России, где едва ли в половине номеров есть душ и туалет. К нам, людям из России, в отеле относятся так, как некогда относились к черным до отмены рабства. Белье нам меняют куда реже, чем американцам, ковер на нашем этаже не чистили ни разу за все время, пока я здесь живу, он ужасающе грязный и пыльный, иногда старый графоман американец из номера напротив, тот, что все стучит на машинке, выходит в трусах, берет метлу и в качестве зарядки бодро выметает ковер. Я все хочу ему сказать, чтобы он не делал этого, так как он только подымает в воздух пыль, а ковер все равно остается грязным, но мне жаль лишать его физического упражнения. Иногда, когда я напиваюсь, он, американец этот, кажется мне агентом ЭфБиАй, приставленным, чтобы следить за мной. Простыни и полотенца нам дают самые старые, свой туалет я мою сам. Короче, мы – люди последнего сорта. Персонал отеля считает нас, я думаю, никчемными лодырями, приехавшими объедать Америку – страну честных тружеников, остриженных под полубокс. Это мне знакомо. В СССР тоже все пиздели о тунеядцах, о том, что нужно приносить пользу обществу. В России пиздели те, кто меньше всех работал. Я писатель уже десять лет. Я не виноват, что обоим государствам мой труд не нужен. Я делаю мою работу – где мои деньги? Оба государства пиздят, что они устроены справедливо, но где мои деньги? Менеджер отеля – темная дама в очках, с польско-русской фамилией – миссис Рогофф, которая когда-то приняла меня в отель по протекции Эдика Брутта, терпеть меня не может. На хуя была нужна протекция, когда в отеле полно пустых номеров, кто станет жить в таких клетках, неизвестно. Придраться миссис ко мне трудно, но ей очень хочется. Иногда она находит случай. Так, если первые месяцы я платил за свой номер два раза в месяц, то через некоторое время она вдруг потребовала, чтобы я платил за месяц вперед. Формально она была права, но мне было куда удобнее платить два раза в месяц, в те дни, когда я получаю свой вэлфер. Я ей сказал об этом. "А покупать белые костюмы и пить шампанское ты можешь, у тебя на это есть деньги?" – сказала она.  Я все думал, какое шампанское, что за шампанское она имеет в виду. Иногда я пил калифорнийское шампанское, чаще всего я делал это совместно с Кириллом, моим приятелем – молодым парнем из Ленинграда, но откуда она могла это знать? Мы обычно пили шампанское в Централ-парке. Только спустя некоторое время я вспомнил, что, собираясь на день рождения к своему старому приятелю художнику Хачатуряну, это тот, чьи картины висят у меня в моей клетке, – я купил, действительно, бутылку Советского шампанского за десять долларов и положил ее в холодильник, чтобы вечером отправиться с ней на торжество. Миссис Рогофф, очевидно, лично каждый день проверяла мой холодильник, или это делала по ее поручению горничная, убирающая (неубирающая) мой номер. "Вы получаете вэлфер, – сказала тогда миссис Рогофф. – Бедная Америка!" – воскликнула она патетически. "Это я бедный, а не Америка", – ответил я ей тогда. Причины ее неприязни ко мне выяснились позже окончательно. Когда она брала меня в отель, она думала, что я еврей. Потом, вдоволь наглядевшись на мой синий с облупленной эмалью крестик, мое единственное достояние и украшение, она поняла, что я не еврей. Некто Марат Багров, бывший работник московского телевидения, тогда еще живший в "Винслоу", сказал мне, что миссис Рогофф жаловалась ему на Эдика Брутта, обманувшего ее и приведшего русского. Так, господа, я на собственной шкуре испытал, что такое дискриминация. Я шучу – евреи живут в нашем отеле не лучше, чем я. Я думаю, куда больше того, что я не еврей, миссис Рогофф не нравится то, что я не выгляжу несчастным. От меня требовалось одно – выглядеть несчастным, знать свое место, а не расхаживать то в одном, то в другом костюме на глазах изумленных зрителей. Я думаю, она с большим удовольствием смотрела бы на меня, если бы я был грязным, сгорбленным и старым. Это успокаивает. А то вэлферист в кружевных рубашках и белых жилетах... Так я живу. Дни катятся за днями, напротив отеля на Мэдисон уже почти совсем разрушили целый блок домов и будут строить американский небоскреб. Кое-кто из евреев, и полуевреев, и выдающих себя за евреев уже съехали из отеля, на их место поселились другие. Держатся они, как черные в своем Гарлеме, коммуной, по вечерам вываливаются на улицу и сидят возле отеля в оконных нишах, кое-кто потягивает из пакетиков напитки, разговаривают о жизни. Если холодно, они собираются в холле, занимая все скамейки, и тогда стоит в холле шум и говор. Администрация отеля борется с коммунальными привычками выходцев из СССР, с их пристрастием к цыганщине, но безуспешно. Заставить их не собираться и не сидеть перед отелем невозможно. И хотя, очевидно, такое деревенское сидение отпугивает от отеля возможных жертв, которые вдруг да и забредут сюда, теперь, кажется, администрация махнула на них рукой – что с ними сделаешь. Я не очень-то имею с ними отношения. Я никогда не останавливаюсь, ограничиваясь словами "Добрый вечер!" или "Общий привет!". Это не значит, что я отношусь к ним плохо. Но на своем веку, в моей бродячей жизни я видел так много разнообразных русских и русско-еврейских людей, а это, на мой взгляд, одно и то же, что они мне неинтересны. Порой в евреях "русское" проступает куда более явно, чем в настоящих русских... Сорванные с мест, без привычного окружения, без нормальной работы, опущенные на дно жизни люди выглядят жалко. Как-то я ездил на Лонг Бич купаться с яростным евреем Маратом Багровым, этот человек умудрился выйти на контрдемонстрацию против демонстрации за свободный выезд евреев из СССР, идущей по 5-й авеню. Вышел он тогда с лозунгами "Прекратите демагогию!", "Помогите нам здесь!". Так вот мы ехали на Лонг Бич, Марат Багров вел машину, которую у него на следующий день украли, а бывший чемпион Советского Союза по велосипедному спорту Наум и я были пассажирами. Компания ехала в гости к двум посудомойкам, работающим там же, на Лонг Бич, в Доме для синиор ситизенс. Едва заглянув в полуподвальные комнаты, где жили посудомойки, один бывший музыкант, другой – бывший комбинатор и делец, специалист по копчению рыбы, я влез через ограду на пляж, чтоб не платить два доллара. Чайки, океан, туман соленый, похмелье. Я долго лежал один, не понимая, в каком я мире. Позднее пришли Багров и Наум. "Ебаная эмиграция!" – все время говорил 34-летний бывший чемпион. – Когда я только приехал в Нью-Йорк, я пошел, чтобы купить газету, купил "Русское дело", и там была твоя статья. Она меня как молотком ударила. Что я наделал, думаю, на хуя я сюда приехал? Он говорит и роет в песке яму. "Ебаная эмиграция!" – его постоянный рефрен. Когда-то я работал в Нью-Йорке в газете "Русское дело", и тогда меня интересовали проблемы эмиграции. После статьи под названием "Разочарование" убрали меня из газеты, от греха подальше. Тогда мне было уже не до проблемы эмиграции... Живет Наум на Бродвее, на Весте, там отель тоже вроде нашего, туда поселяют евреев. Я не знаю, какие там комнаты, но место там похуже, куда более блатное. – Ебешься со своей черной? – спрашивает его Багров деловито. – С той уже не ебусь, – отвечает Наум, – совсем обнаглела. Раньше пятерку брала, теперь 7.50. Это еще ничего бы, но однажды стучит ночью в два часа, я пустил – давай, говорит, ебаться. Я говорю – давай, но бесплатно. Бесплатно, говорит, не пойдет. Я говорю – у меня только десятка и больше денег нет. Давай, говорит, десятку, я тебе завтра сдачу принесу и бесплатно дам. Поебались и пропала на хуй на неделю. А у меня денег больше не было. Пришла через неделю, и деньги вперед требует, а о сдаче молчок. Иди, говорю, на хуй отсюда. А она вопит: "Дай два доллара, я сюда к тебе поднялась, мне портье дверь открывал и на лифте поднял, я ему два доллара пообещала за то, что пустил". – И ты дал? – с интересом спрашивает Багров. – Дал, – говорит Наум, – ну ее на хуй связываться, у нее сутенер есть. – Да, лучше не связываться, – говорит Багров. – Ебаная эмиграция! – говорит Наум. – Воровать надо, грабить, убивать, – говорю я. – Организовать русскую мафию. – А вот напиши я им письмо, – не слушая меня говорит Багров, – в Советский Союз, ребята так ни хуя не поймут. У меня приятель есть, спортивный парень, все мечтал на Олимпийские игры поехать. Вот напишу я ему, что я на своей машине ездил на Олимпийские игры в Монреаль – он же так завидовать будет. И еще не работая в Монреаль ездил, на пособие по безработице. – Хуй ты ему объяснишь, что при машине и Монреале здесь можно в страшном говне находиться, это невозможно объяснить, говорит Наум. – Ебаная эмиграция! Да, не объяснишь. И он если б приехал, ему бы не до Монреаля было, тоже в говне сидел бы. Машина что, я за нее полторы сотни заплатил. Хуйня. Закончив купание (причем они, взрослые мужики, как дети кувыркались в волнах, чего я, Эдичка, долго не выдержал), когда солнце уже садится, мы идем последние с пляжа, судача о том, что в Америке мало людей купается и плавает, большинство просто сидит на берегу или плещется, зайдя в воду по колено, в то время, как в СССР все стремятся заплыть подальше, и ретивых купальщиков вылавливают спасательные лодки, заставляя плыть к берегу. – В этом коренное отличие русского характера от американского. Максимализм, – смеясь, говорю я. Мы идем к посудомойкам и в комнате одного из них устраиваем пир. Пир посудомоек, сварщика, безработного и вэлферовца. Еще несколько лет назад, соберись мы вместе в СССР, мы были бы: поэт, музыкант, спортсмен (чемпион Союза), миллионер (один из посудомоек – Семен – имел около миллиона в России) и известный на всю страну тележурналист. – Менеджер сегодня весь день за нами наблюдал, он знал, что у нас гости, потому мы сегодня уперли меньше, чем всегда, пожрать, – оправдываются посудомойки. Мы жрем прессованную курицу, оживленно беседуем, наливаем из полугаллоновой бутылки виски, мы торопимся, уже стемнело, а нам ехать в Манхаттан. Музыкант работает здесь, чтобы скопить денег на билет в Германию, он хочет попробовать еще один вариант, может, там лучше. Его скрипка стоит в углу, заботливо укутанная поверх футляра в тряпки. Вряд ли мойка посуды способствует улучшению скрипичной техники. Вообще музыкант не совсем уверен, что он хочет в Германию. Есть у него и параллельное желание устроиться на либерийское судно матросом, а кроме того, он поехал бы в Калифорнию. Как красочный показ того, что нас ожидает в будущем, появляется коллега посудомоек – старик украинец. Он получает за ту же работу 66 долларов чистыми в неделю. – Он безответный, вот его босс и обдирает, как хочет, к тому же, он уже старый, так быстро, как мы, не может работать, – говорят посудомойки прямо при старике, нисколько его не стесняясь. Он смущенно улыбается. Мы покидаем гостеприимных посудомоек и при все время понижающейся температуре воздуха отправляемся по прелестным американским дорогам в Нью-Йорк. Едем, злимся, ругаемся, хорохоримся, но скоро расстанемся, и каждый очутится с самим собой... В тот апрельский день все было, как обычно. В коридоре против моей двери копошились люди – снимали Марата Багрова в его номере, снимали по заданию израильской пропаганды – вот, мол, как плохо живут те, кто уехал из Израиля. Вообще в наших эмигрантских душах заинтересовано по меньшей мере три страны – нас постоянно теребят, нами клянутся, нас используют и те, и другие, и третьи. Так вот, бывшего работника московского телевидения Марата Багрова наебывали в этот момент человек из Израиля и бывший советский писатель – Эфраим Веселый и его американские друзья. Шнуры, приспособления, линзы и аппараты столпились у моих дверей. Я ушел в Нью-Йорк, бродил, будто без цели, на Лексингтон, а потом дважды обнаруживал себя у "ее" дома, то есть возле агентства "Золи", где Елена тогда жила. Грустно мне было и противно. Я вдруг поймал себя на том, что теряю сознание. Надо было спасаться. Я вернулся в отель. Действие наебывания продолжалось. Отвыкший от внимания бывший работник московского телевидения заливался соловьем. А злодей Веселый был спокоен. Я постучался к Эдику Брутту и попросил у него взаймы 5 долларов. Добрая душа, Эдик согласился даже сходить со мной за вином, потому как боялся я потерять сознание от тоски. Пошли. Он, усатый и сонный, и я. Я купил галлон калифорнийского красного за 3,59, и мы пошли обратно. Встретили странного человека, с русским лицом, который, взглянув на меня, улыбнулся и вдруг сказал: "Педераст", и свернул на Парк-авеню. "Странная встреча, – сказал я Эдику. – Он точно не живет в нашем отеле". Мы вернулись в отель, а таинство все продолжалось. Теперь другой обитатель нашего общежития, господин Левин, что-то злобно цедил о советской власти и антисемитизме в России. Мы закрылись в номере, и я упросил Эдика символически выпить со мной, хоть рюмку. А сам стал глушить свой галлон... Постепенно я отходил и просветлялся. Эдика кто-то позвал, может быть, его Величество Интервьюер, не помню кто, но позвали. Потом позвали меня, я пошел – дали столик, я взял, и полку для книг взял – Марат Багров приурочил интервью ко дню своего выселения из отеля. Бывший меховщик Боря, один из наиболее достойных людей в отеле, помогал переносить мне столик в мою комнату. Я его угостил стаканчиком. Сам выпил два или три. Был мной приглашен и Марат Багров. Были бы приглашены и Эфраим Веселый с компанией, но они смылись вместе с адской своей аппаратурой. Когда Марат Багров и я опрокидывали свои стаканы, зазвонил телефон. – Что делаешь, – спросил оживленный голос Александра. – Пью галлон вина, едва выпил треть, – говорю, а хочу выпить весь. Обычно галлон бургундского из Калифорнии вполне меня успокаивает. – Слушай, приходи, – сказал Александр, – бери бутыль с собой и приходи. Выпьем, у меня есть еще эль и водка. Хочется крепко выпить, – добавил Александр. При этом он, наверное, еще поправлял очки. Он тихий-тихий, но способен быть отчаянным. – Сейчас, – сказал я, – упакую бутыль и приду. На мне была узенькая джинсовая курточка, такие же джинсовые брюки, вправленные, нет, закатанные очень высоко, обнажая мои красивейшие сапоги на высоком каблуке, сапоги из трех цветов кожи. Для собственного удовольствия я сунул в сапог прекрасный немецкий золингеновский нож, упаковал бутыль и вышел. Внизу, от пикапа, содержащего вещи Багрова-переселенца, меня окликнули – сам Багров, Эдик Брутт и еще какой-то статист. – Куда едешь? – говорят... – Иду, – говорю, на 45-ю улицу, между 8-й и 9-й авеню. – Садись, – говорит Багров, – довезу, я туда почти, на 50-ю и 10-ю авеню переселяюсь. Я сел. Поехали. Мимо колонн пешеходов, мимо позолоченного и пахнущего мочой Бродвея, мимо сплошной стены из гуляющего народа. Мой взгляд любовно вырывал из этой публики долговязые фигуры причудливо одетых черных парней и девушек. У меня слабость к эксцентричной цирковой одежде, и хотя я по причине своей крайней бедности ничего особенного себе позволить не могу, все-таки рубашки у меня все кружевные, один пиджак у меня из лилового бархата, белый костюм – моя гордость – прекрасен, туфли мои всегда на высоченном каблуке, есть и розовые, и покупаю я их там, где покупают их все ребята, – в двух лучших магазинах на Бродвее – на углу 45-й и на углу 46-й – миленькие, разудаленькие магазинчики, где все на каблуках и все вызывающе и для серых нелепо. Я хочу, чтобы даже туфли мои были праздник. Почему нет? Машина двигалась по 45-й на Вест, мимо театров и конных полицейских. У одного подъезда мы удостоились чести лицезреть нашего лилипута-мэра, все эмигранты радостно узнали его, он вылез из машины еще с какими-то отечными лицами, и несколько репортеров без особого энтузиазма, но с профессиональной ловкостью снимали мэра. Уж такой прямо сильной охраны не было видно. Все сидящие в машине посудачили некоторое время на тему, что в такой толчее ничего не стоит пристрелить мэра, и с трудом проехали дальше, продвигаясь едва на несколько метров при каждом переключении светофора. Водитель, Багров и я прикладывались к моей галлоновой бутыли. Я же достал нож и стал им играться. – Спрячь нож, – сказал Багров, – да и приехали. – Я вылез, попрощался и ввергся со своим галлоном в подъезд, нож же занял место в сапоге, пошел спать... Черный парень принес напитки. Он был очень симпатичный и улыбался мне – я ему явно нравился, полупьяный, в черной кружевной рубашке и белом изящном костюме, в жилете, с темной кожей, в туфлях на высоком каблуке, Их стиль, Марат Багров, злой еврей, сказал мне однажды с присущей ему бесцеремонностью: "Конечно, они, черные и цветные, хорошо к тебе относятся – ты такой же, как и они, и одеваешься так же, такой же вертлявый". » *** “Правда”, №157 (21126), 5 июня 1976 года: « ЛОНДОН, 4 (ТАСС). В сообщении из Нью-Йорка газета “Таймс” пишет о бедственном положении бывших советских граждан еврейской национальности, которые оказались в США, попав на удочку сионистской пропаганды. Большинство из них, как свидетельствует газета, не имеет работы, перебиваясь случайными заработками. Особенно велик процент безработных, пишет “Таймс”, среди лиц таких профессий, как врачи, журналисты, инженеры, юристы. Так, например, бывший работник телевидения М. Катров работает грузчиком, доставляющим питьевую воду в конторы. Другой эмигрант Э. Лимонов заявил, что потерял работу в издаваемой в Нью-Йорке эмигрантской антисоветской газете после того, как написал статью, в которой говорилось о его разочаровании жизнью на Западе. Несколько эмигрантов, доведённых до отчаяния, пришли в нью-йоркское отделение лондонской “Таймс” и сообщили следующее: сионистские организации, с таким рвением старающиеся склонить евреев к выезду из Советского Союза, не проявляют никакого интереса к их судьбе, как только они попадают в США. То же самое можно сказать и о политических деятелях, которые очень много рассуждают на эту тему. Эмигранты, продолжает “Таймс”, жаловались также на то, что редакции американских газет, куда они обращались с просьбами рассказать об их лишениях, категорически отказались сделать это. В то же время эти газеты охотно публикуют антисоветские материалы, подхватывают измышления сионистов о положении евреев в Советском Союзе. На протяжении ряда лет, заявили эмигранты английскому журналисту, американские газеты не скупились на высокопарные слова о нас. Сейчас мы здесь, в Соединённых Штатах. Почему же теперь нам отказывают в праве высказать своё мнение на страницах американской так называемой свободной печати? » *** Jewelry and Silence Когда мы планировали перебираться на Запад, то, не имея точной информации, мы не только идеализировали его, мы полностью составили себе неверное представление о нём. Я не скажу, что я думал будто бы на центральных улицах Тель-Авива под асфальтом установлены холодильные установки таким образом, что дамы, отправляясь за покупками на главную его улицу Дизенгоф в середине ужасно жаркого лета, не бояться быть изжаренными, т.к. их ножки и промежности обдуваются прохладным ветерком. И вот я в Америке. В самом начале, когда у меня было время, я задумывался: почему эти люди, т.е. американцы, при всем богатстве их страны и очень часто при их личном приличном состоянии носят на себе столько ювелирных изделий, а порой и массу безвкусной бижутерии? Что они хотят показать, доказать, кто они, что они? Почему они занимаются показухой, зачем им это нужно, ведь мы в Соединенных Штатах Америке, а не в центральной Африке? Думается, я нашел за более, чем тридцатилетнее пребывание здесь, ответ. Только отчасти. Живя в Москве, мне было понятно, почему это такой шумный город: огромный метрополис с отсталой от Запада технологией, с нежеланием, да и неумением властей улучшить жизнь своего народа. Вот там, как говорили некоторые, «за бугром», с его невероятным технологическим прогрессом всё по-другому, там люди наслаждаются покоем, когда он им нужен. Да, это действительно так. Только, какие люди? Те, которые могут обойтись без того, что, например, такой город как Нью-Йорк может предложить; естественно, есть ещё масса и других причин, по которым люди не живут в больших городах. В апреле 1976 года, вопреки уговорам моих друзей и знакомых, думающих, что я переезжаю в очень опасный район Манхэттена, который с середины XIX века почти до наших дней был пристанищем ирландских банд и до сих пор носит название Health Kitchen, я поселился на 10-ой авеню между 50-ой и 51-ой улицами. Надо заметить, что 10-я авеню и её продолжение Амстердам авеню, начиная от 23-ей до 72-ой улиц, – это главная артерия (или по-английски “thoroughfare”) западной части Манхэттена. С редкими перерывами 24 часа в сутки по ней мчатся, издавая сигналы во всю мощь, кареты скорой помощи, полицейские и пожарные машины. Многие жители Манхэттена предполагают, что во многих случаях они едут не по вызову, а по своим собственным нуждам: на ланч или ещё куда-либо, а в случае пожарных, в супермаркет, где их можно встретить очень часто, скупающих невероятное количество продуктов, ибо каждая смена длится 24 часа и они сами готовят себе горячую еду. До 1994 года я жил в 38-ми этажном доме в относительном покое. Потом меня «уплотнили», переведя из 2-спальной квартиры на 13-ом этаже с видом на запад, на Гудзон и, соответственно, Нью-Джерси, на 15-ый этаж в квартиру с одной спальней и видом на юг Манхэттена. И тут началось. Надо мной на 16-ом этаже жила пожилая пуэрториканка. Несмотря на возраст, шум она производила как молодой жеребец, которого хотят обуздать. Почти в 100% американских домов квартирные полы покрыты коврами. Ничего подобного не было у моей соседки наверху. Невероятный шум исходил сверху в любом месте потолка, в самое неожиданное время суток. Как я понимаю, она укладывала с собой в постель костыль. Каждый раз, когда ночью она поднималась в туалет, а это происходило несколько раз за ночь, костыль падал на пол, покрытый сверх бетона тонкими пластиковыми виниловыми плитками, совершенно не амортизирующими шум. Когда же я попросил её подумать, что она не одна живёт в этом бетонном ящике, нашем доме, она стала истерично орать, что с тех пор, как в спальне умер муж, она там не спит. Эта была ложь. Кроме того, каждое утро около 7-ми часов начиналось шлёпанье по полу босых нос – это её внучка металась по спальне (абсолютно точное выражение) между комодами, зеркалами, собираясь на работу. Я не победил: спустя более 12 лет старуха уже подохла (не стесняюсь употребить этого выражения), толстая внучка вполне американских размеров продолжает метаться каждое утро между комодами и зеркалом, топая босыми ногами. Ковра по-прежнему нет, зато появилось нечто другое – сексуальные партнёры. Я встретил её однажды с одним из них в лифте, где она, не стесняясь, «лапала» одного из них – мексиканца. Она их, видимо, кроме всего прочего, подбирает по рукотворным способностям: надо мной наверху постоянно происходит модернизация и ремонт, шум раздаётся в любое, повторяю, в любое время суток. Когда однажды днём над моей головой (я находился в тот момент в гостиной), раздался ужасный шум, как будто меня ударили сверху по голове, я поднялся наверх и постучался в квартиру. Мне открыл дверь внушительного размера чёрный человек. Без всяких эмоций очень ровным тоном я ему сказал, что шум, исходящий из его квартиры, не даёт мне покоя, и в качестве примера я спросил его, что произошло несколько минут назад. Он был очень любезен и ответил мне, что никакого шума он не производил, – он стоял перед мной, держа огромный молоток. Какое-то время с одной стороны моей спальни жила мать-одиночка, пуэрториканка Ирэн с близнецами, мальчиком и девочкой. Третий ребёнок умер во время родов. Не знаю воздействия современного бум-бум на детей раннего возраста, думаю – это убийство. Так вот, из квартиры Ирэн с утра до ночи раздавалось этот непрекращающийся бум-бум, который теперь называется музыкой – точная копия звука, который производит реактивный самолёт, когда он превышает звуковой барьер. Я поставил своё стерео в спальню и включал его на полную мощность. Вскоре Ирэн пришла и взмолилась. Я предложил ей включить её бум-бум негромко и послушать в моей спальне. Дура удивилась, ей казалось, что громкий звук проникает только в одну сторону, и прекратила свой бум-бум. После Ирэн в эту квартиру вселилась пара: Инна-эмигрантка с чёрным мужем. Как только я снова услышал бум-бум, я немедленно постучал в квартиру к новым соседям. Встретили меня довольно агрессивно, думаю, зачинщицей была мать Инны. Пришлось опять поставить стерео в спальню и «кормить» их моим «бетховеном» (однажды я встретил Инну в магазине и на её, принятый здесь вопрос, «как вы поживаете», упомянул Бетховена, она же сказала, что её муж очень любит этого композитора)... т.е. программой джаза. Поскольку наступило затишье, я перенёс моё стерео в гостиную, где ему надлежало быть, но оказалось зря: вскоре Инна нарушила «перемирие» и стерео переехало с спальню, где оно стоит с тех пор, чтобы отразить шумовое нападение «любителей» Бетховена, которое происходит иногда даже после часа ночи. За стеной моей гостиной живёт преподавательница математики, представительница одной из стран Латинской Америки. Я привык думать, что от природы математики имеют выше среднего способности к музыке. Наверное, это относится и к моей соседке-учительнице, только в её понимании бум-бум – это и есть музыка. Слава богу, что после ухода мужа, она чаще ночует вне своего дома, чем в нём. Дети. Люблю их безусловно, независимо от цвета кожи и вероисповедания их родителей. И всё-таки. Ирэн не переехала далеко, она осталась на моём этаже. Поначалу из другой квартиры её дети вырывались в коридор как бешенные животные, нарушая покой всего этажа, в этом им помогала пара белобрысых близнецов, их однолеток – детей хорватской довольно пожилой пары. Однако, совсем недавно к нам подселили очень мрачную пару; она, как я выяснил недавно, – дочь уважаемого мною бывшего суперинденданта нашего дома – абсолютно квадратная, по весу и по свирепому виду напоминает хорошего размера носорога. Не знаю откуда, но у них оказалась куча детей, все разного цвета, которые стали беспрестанно организовывать шумные игрища в коридоре, вынудив меня, вначале их предупредить, а потом дважды пожаловаться охране дома. Видимо, последний выводок перекрыл необузданное поведение уже живущих на этаже так, что последних совсем не стало слышно. Боюсь сглазить, стучу три раза по дереву и такое же количество раз плюю через левое плечо. В одном квартале от моего дома город строит, по-видимому огромное подземное водоочистительное сооружение. «Ну, и пусть себе строит», – скажете вы. Да не тут то было: Манхэттен стоит на базальте, попробуйте в него вгрызться. Поэтому его взрывают. И довольно часто. Вот уже в течении нескольких лет. Также на моей авеню в одном-двух кварталах от меня возводят новые жилые небоскрёбы, два из них – над железной дорогой. Да, да вы отгадали, они будут, а вернее, уже стоят на сваях, вбитых в базальт. Теперь представьте себе, как мы себя чувствовали, когда их забивали с утра до ночи. И последнее. Наши сравнительно новые владельцы решили обновить здание. В течении последних двух лет рабочие бригады сменили все полы в коридорах и осветительные приборы. Учитывая, что шум производимый рабочими 10-ю этажами выше, слышен так, как будто это происходит прямо над вами, понятно в каком состоянии находимся мы, пенсионеры, которым не надо идти на работу и которым некуда деваться. Кода. Сейчас полностью переделывают входной подъезд, т.е. 15-ю этажами ниже. Каждый день с семи утра до 12 дня долбят что-то отбойным молотком и одновременно стучат железом о железо. Вот вам, господа, и высокая технология. Не пора ли уехать к е..... матери в Мэн, а может, ещё дальше?.. Рассматривая теперешнюю ситуацию с моим здоровьем, по-видимому, я могу уехать и дальше.  *** В октябре 1975 года я получил письмо из Израиля от моего друга Сёмы Мельника – бывшего скрипача из оркестра Большого театра Союза ССР, любимца всех, кто либо и когда либо встретил его на своём жизненном пути, в котором он просил меня присмотреть за своим другом по Одессе Жорой Шимановским. О нём, о Жоре, я расскажу несколько позднее, а в начале мне хочется остановиться на одной личности, которую я встретил в весьма хлебосольном доме Жоры: там часто выпивали и закусывали. Было это где-то в конце 76 или начале 77 года. Человека этого звали Ксенией, она приехала из Ленинграда, где, как она говорила, была историком, у неё был сын 14-16 лет. До того, как она попала в дом Шимановских (это случилось сравнительно недавно), она была Фридой, но благодаря крещению на Толстовской ферме она приобрела настоящее русское имя. В это же самое время один из моих новых знакомых, писатель моего возраста, а может быть на десяток или полтора лет старше, откуда-то из северных краёв России, умыкнувший оттуда же молоденькую жену, уговорил меня взять себе совсем маленького котёнка от их кошки, брат и сестра которого умерли от рака. Кстати, писатель, узнав, что я уже в Америке более полутора лет и услышав, как я общаюсь с аборигенами на их родном языке, сказал, что после полутора лет в Америке его английский будет несравненно лучше, чем мой. Прожив в стране намного больше, чем полтора года, он так и не научился даже примитивно приветствовать местных людей на их языке. Ни в коем случае не подумайте, что я злорадствую, я констатирую, что для многих, как и для меня, овладение языком – это большой, а порой, и гигантский труд, который очень многим не по силам. От рождения ленивый, я всегда был плохим студентом, и только в Америке я стал по-настоящему заниматься, ибо не было другого пути, по-крайней мере, у меня. Вскоре, присутствуя на одном из застолий в доме Шимановских, я объявил, что в моём доме появилась кошка. На вопрос любопытного о её имени я ответил, что её зовут Фрида, на что Ксения инквизиторски спросила меня, почему Фрида. Мой ответ был прямолинейный: «Не пропадать же хорошему еврейскому имени».  Так я нажил ещё одного врага. Я должен сказать, что Ксения была активной правозащитницей. Эту деятельность она продолжала и в Нью-Йорке. Однажды в моём присутствии она стала рассказывать Шимановским, что объявила голодовку в защиту прав политзаключенных в СССР и сидит она прямо около секретариата Организации Объединённых Наций на Первом авеню. Далее она сказала, что вот ей только пришлось пойти в отель «Уолдорф Астория» во время голодовки на Лексингтон авеню, чтобы присутствовать на организационном собрании Всеамериканской лиги футбола, так как её сын (не прибавляю ни йоты) – неимоверный худосочный подросток – очень увлекается этим видом спорта. Я не удержался и спросил её: «А вы не забыли повесить надпись на месте голодовки, что она закрыта на обед». Через несколько лет Жора рассказал, что этот мальчик-футболист женился на француженке, однако после женитьбы они решили стать послушниками греческого монастыря. Оказалось, что женщин не берут туда, поэтому она пошла в женский католический монастырь во Франции, а он уехал в греческий монастырь. Кто-то из присутствующих при этом рассказе Жоры спросил, а что он там делает. «Как что, – с видом знатока сказал я, – дрочит».  *** Когда я приехал в Америку, то обратил внимание на то, что здесь выращивается новое поколение женщин – плоскогрудых. Сейчас же новая тенденция: выращивание плоскожопых, ни малейшего углубления в боковой линии талии. Естественно, не без исключений. Латиноамериканские и чернокожие особи женского пола, по-видимому, питаются чем-то другим, нежели их белокожие соплеменницы. Эти плоскожопые (я говорю о белой части слабого пола) диктуют моду не только в одежде и питании, но и, как мне кажется, во внутренней и внешней политике моей третьей родины (Россия и Израиль – первые две).  Это же не в меньшей мере относится и к другой довольно значительной части американского населения: гомосексуалистам. Несколько десятков лет тому назад политикам, участвующим в той или иной избирательной кампании, для того, чтобы победить надо было гоняться за голосами таких национальных меньшинств как итальянцы, евреи, ирландцы. Теперь эти времена канули в вечность, сейчас они борются всеми легальными и нелегальными путями за голоса афро-американцев, латиноамериканцев, гомосексуалистов, женщин и... русских. Хоть бы даже только в одной Калифорнии полтора миллиона русских, т.е людей считающих своим родным языком русский, которые могли бы серьёзно повлиять на результаты выборов. Вот тебе, Вася, и Юрьев День.  *** Недавно, идя по центру Манхэттена, я обратил внимание на двух молоденьких пуэрториканок, которые несли на том месте, где должна быть задница, два огромных курдюка. Всё остальное у них было в полном порядке, включая их прелестные мордочки, которые мне удалось разглядеть, зайдя чуть сбоку. В это время мы проходили мимо здания для офисов, у входа в которое стояли курящие, т.к. теперь в зданиях подобного рода курить запрещено категорически. В сторонке, прислонившись к мраморной стене, с удовольствием затягиваясь сигаретой, стояла элегантная среднего возраста негритянка. Я не могу объяснить, что мотивирует меня в тот или иной момент, поэтому не спрашивайте меня, почему я подошёл к этой женщине. Так вот, подойдя к ней я спросил: “Вы не скажите, – указывая на двух девушек, спросил я, – а что они едят?” У женщины начался такой припадок смеха, что она чуть не упала в обморок. Выше я назвал женщину, к которой я подошёл, негритянкой, а можно было бы её назвать чёрной, афро-американкой, цветной, и это будет правильно, т.к. “негр”, “негритянка” просто вышли из употребления в современном американском английском языке. Употребление этих слов политически неправильно (politically incorrect), а те, кто всё-таки вздумает употреблять их, может иметь большие неприятности, я имею ввиду, в Америке. Дело в том, что слово negro считается таким же оскорбительным для для чёрного населения Штатов, как “жид” в России для евреев. Не обращайте внимания на то, что чёрные, афро-американцы или цветные, как хотите называйте их – всё правильно, – кроют последними словами, где только можно и где нельзя белых: им положено и это правильно, ведь они находились столько лет в рабстве. Ещё более оскорбительным рассматривается в Америке слово niger. Но что интересно, я был довольно частым свидетелям, что это очень оскорбительное слово часто можно услышать в устах американских негров, говорящих друг о друге, чем в разговорах белой Америкеи. Меня удивляет, почему их называют цветными, – это действительно оскорбительно. Их никто не красил, они не выглядят, как раскрашенные во все цвета участники парада гомосексуалистов, проходящих по центральным улицам Манхэттена во время праздника всех святых (Halloween); они нормального чёрного цвета люди, с повышенной чувствительностью к тому, как их называют. Я-то хорошо помню русскую пословицу: “Как ни называй, всё равно в печку посадят”. Здесь, я думаю, уместно привести слова Вильяма Фолкнера, с которыми он обратился к негритянскому населению Америки в одной из своих книг. Привожу дословно: “Если люди вашей расы хотят равенства и справедливости, как все нормальные люди принадлежащие к нашей культуре, большинство должно полностью изменить своё поведение. Если каждый негр не сделает этого, не будет стремится к образованию и учить себя ответственности и морали, нас ожидают большие неприятности в отношениях между двумя расами”. Извините Фолкнера за употребление слова “негр”, 70 лет тому назад это слово ещё не было исключено из американо-английского языка. *** “The New York Times”, February 15, 1988 Steven Erlanger Rise of Refugees Leaving Soviet Taxes Agencies: « While still only a trickle compared with the heyday of detente in 1979, the increasing number of Jews being allowed to leave the Soviet Union since the recent improvement in superpower relations has strained the resources of the charitable agencies that resettle them in America. After relatively tiny but stable numbers of Soviet Jewish refugees from 1983 to 1986, the total coming to the United States rose last year and is expected nearly to double this year, to about 7,000. Even so, the numbers are small in the context of the 100,000 to 300,000 Soviet Jews, out of a population of some 1.8 million Jews in the Soviet Union, that American Jewish organizations say want to emigrate. Last year also saw a sharp increase in the number of Iranian Jewish refugees, with about 2,000 coming to the United States, half of them to the New York region. Another 2,000 Iranian Jews are expected to seek refuge in America this year. Help From Nyana Roughly 80 percent of Soviet Jewish emigres choose to come to the United States, half of whom choose to live in the New York area. Russians, Iranians and others, including some Ethiopians and Indochinese, are helped to find housing, jobs and much of what else they need by the New York Association for New Americans Inc., better known as Nyana, the largest Jewish resettlement agency in the United States. Founded in 1949, Nyana, based at 225 Park Avenue South in Manhattan, since has resettled 265,000 people, about 45,000 of them Soviet Jews, said Mark Handelman, the agency's executive vice president. But periods of expansion like this one, he said, when Nyana attempts to cope with a flow over which it has no control, test everyone's patience, and there appears to be a shortage of experienced social workers to meet the growing need. ''It's hard to find trained people, trained social workers and counselors, that you want,'' Mr. Handelman said. Nyana's budget this year of some $9 million is roughly four times the 1986 budget, he said, and a lease has been signed for more office space that is already insufficient. Nyana's staff, which consisted of 50 people in early 1987, has doubled and is still growing; even so, he said, the average caseload for each Nyana worker is 90 families, which most experts consider roughly twice the optimum in such agencies. 'It's Almost Impossible' ''That's many, too many,'' Mr. Handelman said. ''It's almost impossible and we're working to fix that.'' Avi Dogim, Nyana's director of employment and training, said: ''When you have heavy caseloads like this, it's true, sometimes things tend to fall between the cracks. We do the best we can.'' The Nyana officials were responding to complaints of disorganization and confusion made by some recent Soviet Jewish emigres, who have been finding the United States even more bewildering than they imagined when they arrived in late November. Nyana officials admit the possibility of some mistakes, which they are working to identify and resolve. But they note that Soviet refugees, coming from a society in which housing, transportation and basic foods are subsidized and make-work jobs are common, always have had a difficult time coping with an individualistic, even indifferent free-market society. 'Can't Predict Refugee Flow' ''It's important to note that it is perfectly normal for people who are emigrating, especially from the Soviet Union, to be unhappy with what they're finding or receiving,'' said Karl D. Zukerman, executive vice president of the United Hias Service, which brings the refugees to America. But Mr. Zukerman and other agency officials acknowledged that given the current pressures, less attention was being paid to clients than they preferred. ''Since one can't predict refugee flow, especially with the Soviets, you're always in a catch-up position,'' Mr. Zukerman said. ''The capacity of Jewish agencies to gear up or down is legendary, but it does seem more difficult these days to find people who want to do this kind of work. Everyone is having trouble finding the personnel we all want and need, to work sensitively with these people.'' The emigration figures do not compare to those in 1979, during the peak of detente, when 4,250 Jews a month left the Soviet Union. But the new increase means that some Jewish professionals who have waited eight or nine years for exit visas have suddenly been receiving them. New Arrivals Yuri Frants; his wife, Zinaida, both 51 years old, and their daughters, Irina, 19, and Rimma, 16, arrived in New York on Nov. 20, after having been refused exit visas for eight years. A Ph.D. in systems analysis, Mr. Frants lost his job when he first applied to leave. Unlike their daughters, Mr. and Mrs. Frants do not speak much English; they attend classes given by Nyana, which provides them cash and vocational counseling. In their apartment in the Borough Park section of Brooklyn, Mr. Frants speaks gratefully of the help they have received in ''a free country,'' he said, ''a place where we can be respected and also respect.'' Mr. Frants is ebullient, eager to make a joke; Mrs. Frants seems more skeptical. ''I came because of my husband, and because my children had no perspectives,'' said Mrs. Frants, who is not Jewish. ''I have no illusions about the United States; I never thought I would find it easy here.'' Their new life was not an adventure, Mrs. Frants said. ''It's one difficulty after another. But I shall work hard and quietly as I have always done.'' They are grateful, but like their upstairs neighbors, Alexander and Alla Yarin, who arrived in America on the same airplane as the Frantses, they are also bitter. Having taken the apartments on Nyana's suggestion, both couples say, they are unable to afford the rent, which is more than twice the housing allowance Nyana provides them. Their landlord has already begun the legal process of evicting them, and they say they have received little advice from Nyana about what to do. Nor do they yet have employment. 'Little Blind Kittens' ''It's not the money so much,'' said Mr. Yarin, 41, a mechanical engineer from Moscow, as his wife, who speaks both English and Japanese and worked as a book editor, did the translation. ''It's the disorganization and the lack of information. Nyana tells us so little. We're kept like little blind kittens.'' Nyana is limited in the amount of rental assistance it can provide, even in New York City, by national ceilings on income that cannot be exceeded if clients are to qualify for Federal programs like food stamps and Medicaid, Mr. Handelman said. At the same time, he stressed, Nyana wants to get its clients to work and to financial independence as soon as possible for their own good, even if that means a certain apparent harshness. ''Sometimes that means having to take jobs they feel are beneath them,'' Mr. Handelman said. ''But we're not going to allow anyone to get hurt through no fault of their own.'' In 1986, Hias assisted 640 of the roughly 900 Soviet Jews allowed to leave to come to the United States. In 1987, 8,000 were allowed to leave; about 3,800 have already settled in America, with at least another 1,000 in Rome awaiting formal United States immigration procedures. In 1987, Nyana settled at least 1,500 Soviet Jews in the greater New York region, plus 1,000 Iranian Jews, as well as 300 Ethiopians and Indochinese. In 1988, Hias expects, 7,000 Soviet Jews alone will come to America; Nyana expects to be resettling half of them, plus another 1,000 Iranian Jews. Those numbers will provide a major test of financing, professionalism and good will, everyone acknowledges. ''We know that many of our Soviet clients tend to see any agency as quasigovernmental, and they react with intense suspicion,'' said Nyana's Mr. Dogim. ''While we look at ourselves as members of the helping profession, our Soviet clients tend to see us as petty bureaucrats to be manipulated. ''Part of our job of acculturation is to build trust,'' he said. ''Sometimes we find that people only come to understand this later, after they have been here for a while.'' ''The U.S. and the U.S.S.R. are two big countries, but nothing between them is the same,'' said Marat Katrov, who emigrated in 1972 and is an old friend of Mr. Frants. ''You cannot compare the two – the mentality is absolutely different.'' Across a round table, salvaged from the street, Mrs. Yarin waved him away. ''All that is so,'' she said. ''But we've come here because we wanted to, and we must adjust. And we will – we'll get hired and adjust. But let's talk about today's problem,'' she said, exasperated. ''What if we get evicted?' |